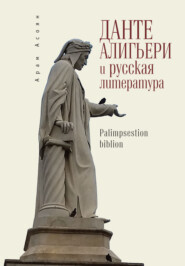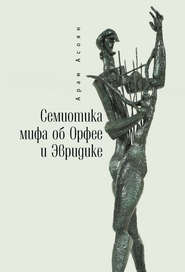По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Языком Истины свободной…»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В трагедии «Каменный гость» Дон Гуан с иронией созерцает статую командора:
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!
А сам покойник мал был и тщедушен,
Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
До своего он носу дотянуть (VII, 153).
«Титаническая мощь Каменного гостя, – утверждал Р. Якобсон, – является исключительной особенностью статуи <…> В “Медном всаднике” это свойство статуи соединяется с титанической мощью изображаемого лица, царя Петра Великого… – »[66 - Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 148.]
Между тем исполинский рост командора объясняется не только тем, что в трагедии он представлен каменным изваянием, но и античной традицией считать умерших сакральными лицами и превосходящими своими размерами живых[67 - Хюбнер К. Истина мифа. Указ. изд. С. 215.]. Трудно сказать, замечал авторитетный антиковед В. В. Латышев, «где кончалось простое почитание предков и где начиналось их обоготворение»[68 - Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Богослужебные и сценические древности. СПб., 1997.]. В итоге это привело к тому, что на могильных памятниках, стелах греки изображали умерших более крупными, чем живых. С подобным характером изображения мы встречаемся иногда и там, где статуя отсутствует, но где греческая традиция остается живым наследием. Например, в «Божественной комедии». В XXIII кантике «Inferno» Вергилий берет Данте на руки, спасая его от Загребал: «Как сына, не как друга, на руках Меня держа, стремился вдоль откоса»[69 - Данте А. Божественная комедия ? Пер. М. Л. Лозинского. М., 1968. С. 102.].
«Вакхическая песня», которая не единожды привлекала внимание «веселой мудростью»[70 - Мережковский Д. Пушкин // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 104.], «экстатическим тоном»[71 - Гершензон М. Мудрость Пушкина // Там же. С. 231.], «свободой дерзновенья»[72 - Ильин И. Пророческое призвание Пушкина // Там же. С. 348.], да и своим названием, в котором фигурирует имя страстного, патетического эллинского бога, обращает читателей Пушкина к древнегреческим реалиям. Один из исследователей резонно отмечает: «Греческий дифирамб, прославлявший Диониса, исполнялся хором, расположенным в виде круга. Пушкинский дифирамб незаметно выстроил исполнителей тоже в круг – императив о «сдвигании разом» стаканов осуществим только при круговом расположении участников хора друзей поэта»[73 - Муръянов М. Ф. О пушкинской «Вакхической песне» // Муръянов М. Ф. Пушкин и Германия. М., 1999. С. 149.]. По мнению М. Ф. Мурьянова, содержание пушкинского стихотворения возможно рассматривать как символическое обручение вакхантов с вином, божественной стихией, приводящей их в экстатическое состояние непосредственного общения с музами[74 - Там же.]. От них идет тот творческий порыв, без которого, как считали древние греки, владение техникой стихосложения ничего не дает. В «Ионе» Платон писал: «Муза сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других одержимых божественным вдохновением. Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так и хорошие мелические поэты: подобно тому как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения, ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакхантами и одержимыми. Вакханки, когда они одержимы, черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме не черпают; так бывает и с душою мелических поэтов, как они сами о том свидетельствуют»[75 - Платон. Ион // Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 376–377.]. Культовое значение виноградной лозы и вина, присущее античности и унаследованное от нее христианской литургией, создает, справедливо замечает исследователь, особую торжественность священнодействия в пушкинском языческом дифирамбе[76 - Муръянов М. Ф. Указ. соч. С. 149.].
Это восторженное драматизированное песнопение в честь бога Диониса и в греческой культуре, и в пушкинской лирике было не чем иным, как «преодолением хаоса»[77 - См. об этом: Ильин В. Аполлон и Дионис в творчестве Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 312.]. Один из современников русского поэта, Ф. Глинка, писал о нем: «Пушкин был живой волкан, внутренняя жизнь била из него огненным столбом»[78 - Цит. по: Ильин И. Пророческое призвание Пушкин // Пушкин в русской философской критике. С. 347.]. Но через край уходящему кипению души, замечает другой исследователь, «этому страстному извержению соответствовали – пронизывающая сила острого ума, неошибающийся эстетический вкус, качественное благородство души и способность с трепетом и умилением отвечать на все божественное»[79 - Там же.].
В «Вакхической песне» дионисическое и аполлоническое действительно предстают как форма становления творческого акта, и преодоление патоса гармонией возникает в художественном пространстве-времени, где «эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума…» (II, 420). Прообразом рождения такого духовно-интеллектуального, творческого действа, несомненно, был «Пир» Платона, которым древнегреческий философ положил начало застолий («симпосионов»), сопровождавшихся возлияниями и «взаимной беседой». О культе симпосионов в «золотой век» русской культуры свидетельствует послание молодого Пушкина П. П. Каверину:
И черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведает, что можно дружно жить.
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом (II, 245).
Весьма семиотичным в пушкинской лирике является использование гекзаметра. Этой теме посвящена семидесятилетней давности, но совершенно замечательная статья С. М. Бонди «Пушкин и русский гекзаметр»[80 - Бонди С. М. Пушкин и русский гекзаметр // Бонди С. М. О Пушкине. Статьи и исследования. М., 1983. С. 307–370.]. Ее «адресная» часть начинается с самого раннего гекзаметрического стихотворения поэта – эпиграммы «Несчастие Клита» – на своего лицейского друга и литературного оппонента В. Кюхельбекера. Она написана рифмованными стихами, что противоречит традиционной просодии русской антики, но гекзаметр выбран с целью визуализации адресата, который отличался особым пристрастием к античным метрическим формам:
Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет,
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышит:
Мера простая сия все портит, по мнению Клита.
Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита.
Спорить о том я не смею, пусть он безвинно поносит,
Ямб охладил рифмача, гекзаметры он заморозит (I, 21).
В этих «довольно нескладных стихах» (С. Бонди), а скорее пародирующих довольно неуклюжие «песенки Клита», предварение будущих споров «арзамасцев» со староверами русской литературы. В дальнейшем Пушкин настойчиво овладевает гекзаметром уже в чисто художественных целях, и С. Бонди, говоря о строении зрелого пушкинского гекзаметра, перечисляет вполне законченные стихотворения, четырнадцать из которых написаны элегическим стихом, а одно чистым гекзаметром: 1. «Кто на снегах возрастил…» – 1829; 2. «Труд» («Миг вожделенный настал…») – 1830; 3. «Царскосельская статуя («Урну с водой уронив…» – 1830; 4. «Крив был Гнедич поэт…» -1830; 5. «Отрок» («Невод рыбак расстилал…»); 6. «Рифма» («Эхо, бессонная нимфа…»); 7. «На перевод “Илиады”» («Слышу умолкнувший звук…» – 1830); 8. («Из Ксенофона колофанского») «Чистый лоснится пол…» – 1833; 9. («Из Афенея») «Славная флейта…» – 1833; 10. «Вино» («Злое дитя…» – 1833; 11. «Юноша! Скромно пируй…» -1833; 12. «Юношу, горько рыдая…» – 1835; 13. «Художнику» («Грустен и весел вхожу…») – 1836; 14. «На статую, играющую в свайку» («Юноша, полный красы…») – 1836; 15. «На статую играющего в бабки» («Юноша трижды шагнул…») – 1836[81 - Бонди С. М. Указ. соч. С. 344–345. О других гранях семиозиса эллиниских форм в творчестве Пушкина см.: Пушкин и античность. М., 2001.].
«Перечитывая этот список, – писал Бонди, – мы сразу видим основную черту пушкинского употребления гекзаметра: у него этот стих всегда строго сохраняет свой античный характер. “Гекзаметра священные напевы” звучат в стихах Пушкина только в строго определенные моменты – или когда в стихах речь идет об античных мотивах, или когда содержанию стихотворения поэт хочет придать античный колорит <…> Остальные объединяются одной общей темой о русском искусстве как наследнике античного, стремление внести образы русской поэзии или изобразительного искусства в пантеон античного искусства»[82 - Бонди С. М. Указ. соч. С. 345.]. Или, скажем мы, внести образы античного искусства в пантеон русской художественной культуры. Именно об этом писал в 1820 г. С. С. Уваров в книге «О греческой антологии»: «Посредством ее мы становимся современниками греков, мы разделяем их страсти, мы открываем даже следы тех быстрых, мгновенных впечатлений, которые как следы на песке в развалинах Геркуланума заставляют нас забывать, что две тысячи лет отделяют нас от древних <…> Антология потеряет всю свою цену, если мы не станем смотреть на нее глазами древних. Чем вернее и ближе она изображает все подробности их нравственного бытия, тем более она требует верного и опытного взгляда»[83 - Уваров С. С. (Батюшков К. Н.) О греческой антологии. СПб., 1920. С. 2. В прибавлениях к антологии Уваров писал: «Желая облегчить труд поэта (переводчика К. Н. Батюшкова. – А. А.), обогащающего нашу словесность примерами греческой поэзии, сотрудник его (Уваров С. С. – А. А.) переводил те самые пьесы на французский язык» (Уваров С. С. О греческой антологии. Указ. изд. С. 37).]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: