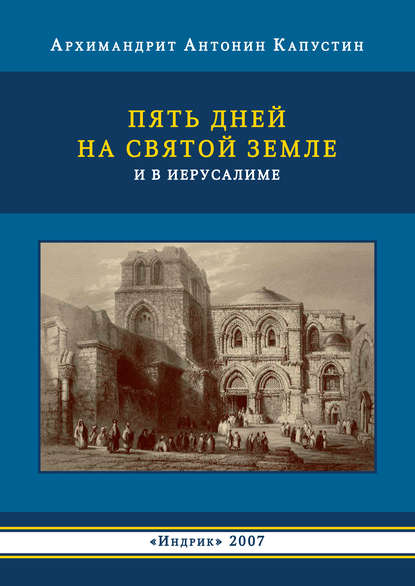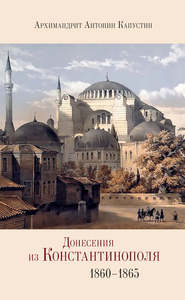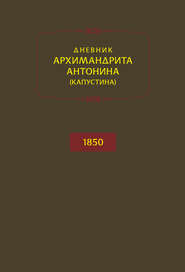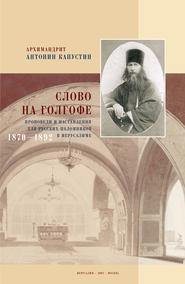По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во след другим двинулся и я ко Гробу Господнему. Выступив из-под сводов круглой галереи на площадь так называемой «Ротонды», я приветствовал всеми ублажениями родного чувства знакомую часовню; тысячекратно приветствованную уже прежде заочно в разные времена и в разных обстоятельствах жизни. Да, это она, новая скиния свидания, ничем незаменимого и ни с чем несравнимого, – она, хранящая в себе нерушимый ковчег ненарушимого завета, – она, сияющая во всю вселенную трисолнечным светом нетления, воскресения и жизни вечной. Я на минуту прислонился к одному из столбов, поддерживающих купол, и старался продлить в себе впечатление неповторимое; кругом меня и далее по всему помосту виделись коленопреклоненные и приникшие к полу фигуры, едва различаемые в полусвете храма. На самой же площадке перед часовнею была толпа непроходимая, в коей немало виделось и наших спутников, ставивших свечи и ждавших очереди войти ко Гробу. Заметив идущего одного поклонника, они поспешили открыть ему дорогу. Народ расступился, сменяя на время молитву чувством удивления при виде высокой фигуры в эполетах и орденах, вступавшей на площадку с важностию и благоговением. «Генерал» – разнеслось шопотом по толпе. Благочестивый поклонник уже приблизился к дверце, ведущей в святую пещеру, как вдруг какой-то соотчич из простого звания схватил его за полы мундира и сказал тоном, к которому, конечно, не привык остановленный: «Стой! Разуйся!» На осведомление сего последнего, в чем дело, и что тому нужно, какая-то поклонница, также простого звания, начала объяснять, что место тут свято, что надобно входить туда босыми ногами и прочее. Когда же увидела, что объяснения ее ни к чему не повели, и поклонник вошел в часовню неразутый, с сердцем заговорила толпе: «они ведь святые, у них все чисто, не то, что у нас грешных» и т. д.
Настала и моя очередь войти в богоприемную пещеру. Малый кусок серого камня, сделанный в виде четыреугольной плиты и положенный на четвероугольном же столбике, стоял посреди приделанной к скале комнаты. Он есть остаток камня, замыкавшего некогда вход во Гроб. Об этой комнате я не имел прежде верного нонятия, несмотря на столько описаний часовни. Составляя одно с сею последнею, она в тоже время не принадлежит гробу, служа преддверием к нему. Я дерзнул переступить черту, отделяющую ее от пещеры, и припал к камню, покрывающему смертное ложе Иисуса. Представление Его бездыханного, повитого плащаницею и распростертого в глубине скалы, разделяющего общую участь земнородных, усердно погребенного и враждебно стерегомого, наполнило душу сочувственною скорбию. С дерзновением, достойным наилучше предочищенных душ, поклонялся я месту временного покоя Сына Божия, касался устами сего источника и моего воскресения по слову песни пасхальной, пил его питие новое, не от камене неплодно чудодеемое, и в нем утверждался всею полнотою моих последних чаяний. О, зачем раз успокоенное сердце должно возвращаться потом опять к бессмысленной тревоге при вопросе о смерти, о тлении, о рассеянии стихийного тела по стихиям мира? Да звучит в слух душевный неумолкаемо вынесенное мною из светлого чертога пакибытия слово Господне: идеже есмь Аз, ту и слуга мои будеть. О, божественного, о, любезного, о, сладчайшего твоего гласа! Служитель Твой недостойный, бедный и немощный собою, но сильный и богатый Тобою, в виду суетных совопрошений суетного мира, отрекается знать что-либо… Мой ответ всему Ты, Твое Слово, Твой Гроб и Твое Воскресение!
Поклонение прочей святыне храма было отложено мною пока, потому что в соборе начиналась уже вечерня. Она была воскресная, и потому отправлялась торжественно. Сам наместник патриарший присутствовал в церкви, одетый в мантию. Служба шла порядком, мне хорошо известным. О малых уклонениях обрядности, условливаемых местностию, не стоит говорить. Но нельзя умолчать о том, также местном, обстоятельстве, что все песни церковные несравненно глубже падали и живее действовали на сердце здесь, в виду Живоносного Гроба, чем где-либо, когда-либо. Так, каждое слово вечерней стихиры: «Радуйся Сионе святый, мати церквей, Божие жилище! Ты бо приял ecu первый оставление грехов воскресением» – заключало в себе теперь для меня как бы новый смысл. Также и обращение ко Господу в стихе: «Слава Тебе, Христе Спасе, Сыне Божии единородный, пригвоздивыйся на крест и воскресый из гроба тридневен» – не казалось мне уже сочинением, чьим бы то ни было, ни даже простым обращением к Богу более по привычке, нежели по нужде, а было восторженным взыванием души к своему благодетелю, присущему ей если и незримо, то все равно ощутимо. Я ублажил тех, кои могут быть постоянно под этим живым и действенным впечатлением песнопений церкви.
После вечерни спутники мои представлялись правителю Иерусалимскому, которого нашли вообще «прекрасным и любезным» и даже образованным человеком. Несмотря на эти качества, он отказался однако же дать нам позволение видеть внутренность мечети Эль-Сахр, опасаясь фанатизма народного, хотя охотно показывал ее из окна своего и даже присовокупил, что, пожалуй, он даст стражу, с которой ручается за вход в мечеть, но за выход оттуда не отвечает. Наиболее мужесвенные из нас погорячились, слышна была чья-то похвальба «одним выстрелом разогнать всю сволочь», но свежее еще предание об одном англичанине, не так давно убитом чернью вследствие такой же неуместной решимости прать противу рожна, охладило мало-помалу горячку.
По возвращении к храму Воскресения, занялись большею частию покупкою около него перламутровых икон, крестов, четок и проч.; при этом не без удивления слышали, как продавцы, все почти арабы, объяснялись с нами по-русски. Выражения: купи, узми, хорош, еден руп и тому подобные оглашали хотя и странно, но приятно слух наш. Не забуду я, как при этом сопутствовавший мне почтенный и обязательный отец Вениамин покупал для меня у одного из сидевших на площадке перед храмом арабов пригоршни крестиков, и когда тот не соглашался уступить их за предлагаемую цену, погорячился на него. Тогда продавец с кротостию, достойною евангельских Закхеев, поднял к нему простодушное лицо, и сказал: «дорог – не купи, а не сердись». Заметив же при этом мою улыбку, подал мне все крестики и сказал: «бери, дай, что хошь». Спокойствие и добродушие бедняка тронули меня.
Между тем, смерклось. Общество наше опять отправилось ловить отдых, столько нужный для предстоявшей ночной молитвы. Меня же опять бежал желанный сон. Наскучив бороться с бдением, я оставил комнату и вышел на террасу. Сопутствовали мне туда глубокая темнота и не менее глубокая тишина. Привыкнув по ночам уединяться в надземный мир Божий, я рад был бессонице. Знакомый в общности и даже в некоторых подробностях свод звездный накрывал собою Святой Град, как и покрывал его столетитя и тысячелетия прежде того. Не только один и тот же для множества эпох, но один и тот же для множества пространств нашей малой земли, этот свод радостно действует на душу путника, занесенного за тысячи верст от привычного места жительства, говоря ему о его родном угле своим присутствием и приучая его распространять тесные пределы своего кружка на всю землю, – единую, Господню, по словам пророка. Особенно нужно это приучение для подобного мне поклонника, прибывшего в Иерусалим искать следов Того, Кто стал своим для всех стран земли, сделав ее одним, общим селением рода человеческого. Но земному ли только учить, и должно учить иерусалимское небо? Хотя без строгой отчетливости, на меня убедительно действовало представление, что, как на земле, без видимого какого-нибудь средоточия ее, было одно такое место – Иерусалим, – которое столько времени можно было признавать постоянным средоточием откровений Божиих, жилищем Божьим, по слову писания, то и там в общей целости мира миров можно бы также гадать о каком-нибудь Иерусалиме, жилище Божием, не средоточном, может быть, в отношении астрономическом, но средоточном в космологическом смысле, где пребывает Он, наш Первенец из мертвых, наш Предтеча и Вождь, Уготователь наших вечных обителей в дому Отца Своего, с Своею торжествующею Церковью.
В десять часов нас ввели в церковь на у треннее богослужение. Там уже читалась полунощница. Десятка два-три богомольцев стояли вдоль стен в стоялках, то делая вдруг по нескольку поклонов, то надолго оставаясь неподвижными и блуждая взором по высоким сводам храма, – видимо, усиливаясь разогнать дремоту, которую навевало на них однотонное чтение, прерываемое изредка крикливым пением, также мало способным возбудить дух к молитве. Истомленный двухдневным бодрствованием и множеством поражающих впечатлений я также, вместе с другими, боролся со сном, поминутно теряя сознание и болезненно возвращаясь к нему. Уже утреня преполовлялась, малыми отрывками достигая слуха, как вдруг сильное и приятное впечатление нежданно ободрило меня. Поблизости меня с правой стороны алтаря раздалось громкое и стройное пение. Сперва я не мог понять, что бы такое это было. Но скоро сладкое чувство отчизны, проникши всего меня, сказало мне, что это наша Русь воззвала своим могущественным и торжественным голосом ко Господу во след своей изнемогающей матери – Греции. На Голгофе русские поклонники начали петь свою Всенощную. Чудно было слышать эти два православные пения одно современно с другим. Слух естественно настраивался в тон русского пения как более звучного, и греческое казалось уже неприятным диссонансом. Но когда смолкало первое, напев греческий принимал естественность и переставал беспокоить изможденный и уже всему страдательно подчинявшийся слух, на который ударом колокола падало потом опять русское ex abrupto пение. Уже обе Утрени, греческая и русская совпавши, близились к окончанию, а время шло к полуночи, как раздался под сводами храма сильными звуками орган, возвестивший начало латинской Утрени. Холодное, из высоты несшееся и повсюду расходившееся в храме звучание латинского богослужения выражало как нельзя более характер сей, чуждой Востока, церкви, холодной для его интересов. Но вот орган умолк. Впечатление бессердечной церкви однакоже оставалось в душе и резко чувствовалось. Ты тут, гордый Рим, самим собою заменивший для Запада и Иерусалим, и Голгофу, и Гроб Господень! Ты дал нам знать о себе, напомнил о своем отдаленном существовании, пронесшись бездушным гласом над святынею под сводами чуждого тебе храма! Зачем же ты здесь? Тебе не нужен Иерусалим. Иерусалиму не нужен ты. Здесь место воплей и взываний молитвенных, а ты являешься с игрою трубною!
Так думал я. Но сменившее орган живое пение или чтение на распев священника католического, однообразное и напряженное более жалобное, нежели торжественное, заговорило в слух мой неподдельным, истинным голосом церкви, глубоко падавшим на душу и тем глубже, чем более вслушивался я в простые древние мотивы христианской молитвы, истекшей некогда из сердца, проникнутого глубоким умилением. Яснейшим образом было видно, что это молится церковь одной древности с греческою. Их родственная близость ощущалась всякий раз, как замолкало русское пение и слышалось одно только греческое и латинское. Их сходство неотрицаемо, хотя также неотрицаемо и различие. Теперь глубокая вражда разделяет две церкви, но думается, что в самой вражде их можно предполагать присущее им сознание своего взаимного родства, сознание для обеих сторон болезненное, раздражающее, как и всякий неестественный разлад. У Гроба Господня позволительно скорбеть об этом раздвоении церкви. Припомним, как дружно спешили к сему гробу некогда Петр и Иоанн. Между характерами их также было резкое различие, но одушевлявшее их чувство у обоих было одно. Им мало было нужды до того, что один из них притек скорее, а другой увидел скорее. Это случайности; их занимало высокой важности дело – судьба своего Учителя. Отчего же члены церкви, хвалящиеся духом и преемством приближеннейших ко Господу учеников, представляют собою печальное зрелище разномыслия, невиданного между двумя апостолами? Ужели иссяк в них источник апостольской любви ко Иисусу Христу? По-видимому, нет. Вот они у одной и той же равно им драгоценной святыни, соединясь в чувстве беспредельной преданности к одному и тому же Господу. Полезно чадам наследниц и учениц великих апостолов чаще припоминать уроки, полученные сими от своего учителя. Петр, помыслив раз о земном царстве Иисуса Христа, услышал от него следующее: «не мыслиши яже суть Божия, но человеческая» (Мф. 16, 23). Иоанн, пожелавший истребления городам, не принявшим евангельской проповеди, получил замечание от Учителя: «не весте коего духа есте вы» (Лк, 9, 55). Пусть же римские католики отделят от церкви все, что пристало в ней человеческого к божескому. Пусть греки умерят свою ревность ко всему своеобразному, так сказать, национальному своей церкви и имеют более снисхождения к немощам других, памятуя слово Господне: кто не против нас, mom за нас. Тогда, подобно первенствующим апостолам, обе церкви будут вместе с большим успехом подавать цельбу страждущему человечеству.
К двенадцати часам часовня Гроба Господня осветилась многочисленными разноцветными огнями. Изнутри ее исходил целый поток света, прорывавшийся по временам сквозь движущуюся толпу народа по всему пространству собора, в котором водворилась уже глубокая тишина. В слитном шуме окружающего часовню народа стало слышаться однотонное чтение. Это были Часы, бегло чтомые по-русски. Вскоре раздалось и громкое русское пение. Литургия длилась около часа. К общему утешению, на тот раз собралось во Святом Граде русских поклонников более четырехсот человек, из коих немало было лиц духовного завания. Оттого божественная служба правилась не только торжественно, но даже, можно сказать, великолепно. Чувство радости пасхальной возбуждала она беспрерывно, от начала до конца своего. Да будет сладкая память о ней утешением душе в минуты, когда не будет для нее в мире ни одной радости. О Пасха велия и священнейшая Христе! О Мудросте и Слове Божии и Сило! Подавай нам истее тебе причащатися в невечернем дни царствия Твоего!
По местному обыкновению, после литургии все прикладывались к животворящему древу в соборе, в то время, как из гроба Господнего износились уже звуки другого голоса и другого пения, напоминавшего собою отчасти греческую, отчасти латинскую службу. То была армянская Обедня. Латинской мы уже не слыхали, потому что позваны были «подкрепить силы», в самом деле до крайности ослабленные, в примыкающих к Голгофе комнатах патриархии, где был и сам преосвященейший наместник. За тем все разошлись для покоя.
Воскресение, 22 сентября 1857 г.
Короткий, но глубокий сон освежил тело и душу. Странные ощущения вчерашнего дня уже не повторялись. Представления более не двоились. Без усилия сочетавались в голове разные образы Иерусалима, вставляемые теперь уже, как отдельные эпохи, в общую историческую картину его, подобно тому, как это бывает при обзоре всякой другой древности мира, просуществовавшей много веков и пережившей множество поколений человеческих, оставивших на ней печать своего мимолетного бытия. Одним словом, передо мною был уже один «археологический» Иерусалим, как в свое время были таковыми Царьград, Афины, Рим и другие города, – памятники древности. Вчерашний день как бы вовсе уже не существовал для меня, по крайней мере относим был мною к другой какой-то отдаленной эпохи жизни. Так я сознавал сегодня состояние свое, сидя в четырех стенах отведенной мне комнаты и держа перед собою карту Иерусалима. Я готовился делать обозрение Святого Града.
Около десяти часов утра все общество наше формально представлялось патриаршему наместнику. Почтеннейший иерарх старался при этом говорить по-русски. На вопрос же одного из нас, как он научился русскому языку, не выходя никуда из Иерусалима, – старец ответил, улыбаясь: «Воровски, крал то у одного, то у другого поклонника по слову, и вот несколько научился». Простота обращения его изумила и тронула общество наше, закованное службою и привычкою в строгие формы самого неумолимого приличия. Многие не хотели верить, что это архиерей, и еще митрополит. При этом, разумеется, не обошлось без различных взглядов на высшее достоинство церковное. Одним хотелось, чтоб и русские святители в простоте обращения походили на греческих; другим казалось, что грекам еще должно учиться у нас и приличию, и вкусу, и такту жизни. Для меня не было новиною видеть святителя греческого. Оттого я был в выгодном положении бесстрастного наблюдателя чужих мнений. Читатель может занять еще выгоднейшее – их ценителя.
Разрез храма Воскресения в Иерусалиме. 1805 г.
Вид верхнего яруса храма Воскресения
Вышед от наместника, мы разбрелись, кто куда хотел. Я стал рассматривать храм Воскресения с архитектурной его стороны, но вскоре понял, что нахожусь в неисходном лабиринте. Какая часть его к какому должна быть относима времени, этого, вероятно, никто бы мне не объяснил. После стольких пожаров, что осталось в нем от древнего времени? Тот или другой писатель, упомянувший о разрушении и воссоздании храма, говорил о том обыкновенно весьма кратко и односторонне, не предполагая возможности более подробных распросов и допросов потомства. Винить ли в том его простоту или свою пытливость? Не зная, таким образом, ничего положительного, напрасно старался я угадывать, что и в котором месте есть в храме византийского, и что готического, и что относить должно ко времени турецкому? Я взошел к самому куполу храма Воскресения и осязал его руками, как бы спрашивая у стен, кто и когда их построил. Но наружность купола, скрытая под штукатуркою, не давала никакого ответа. Его восемь окон, сведенные кверху полукругом, слишком общего стиля, чтобы по ним можно было судить о чем-нибудь. Ни карниза, ни другого какого-нибудь украшения не существует на стенах его. Свод покрыт сверху цементом и по его поверхности идет спиралью лестница из камня или того же цемента, доводящая до самой шейки его, на которой, без сомнения, стоял некогда крест, снесенный оттуда изуверством. Приписывают непростительной робости или беззаботности греческого духовенства то, что знаменитейший храм христианского мира остается теперь без заветного христианского украшения. Терпимость нынешнего правительства турецкого позволяет думать, что с его стороны не было бы препятствия к водружению на храме креста (на первый раз хотя бы каменного). Другие вероисповедания христианские едва ли найдут уместным вмешаться в чужое дело; ибо собор (т. е. собственно церковь Воскресения Христова) есть всеми признанная собственность греков. В одном из окон купола устроена дверь, вводящая внутрь здания на железную галерею, идущую вокруг внутренней стены купола и назначенную, собственно, к тому, чтобы поддерживать спускающиеся с нее вниз цепи и веревки, унизываемые во время великих праздников на всенощных бдениях, разноцветными лампадками, производящими, как говорят, удивительный эффект. Но десять или двенадцать раз в году служа украшением церкви, эти тяжелые и бесвкусные привески во все остальное время безобразят ее. Куполу, как подобию неба, всего приличнее быть совершенно открытым для взора всех, – особенно же там, где он есть единственный проводник света в церковь. Несмотря на свои, для нашего времени уже скромные размеры, купол сей есть один из обширнейших, завещанных нам древностью. Внутренность его, так же как и внешность, выштукатурена, но пробитая в нескольких местах штукатурка обозначила таящийся под нею мрамор, именно же три тонкие колонны, коими обрамлены, по-видимому, все окна. Одна из них с гладкою поверхностью, другая – дорожчатая, третья – витая. Обстоятельство это дает повод думать, что штукатурка скрывает под собою гораздо более ценную поверхность, может быть, даже мозаическую, и, во всяком случае, ведет к заключению, что купол не есть перестройка новых времен, а свидетельствует собою старую эпоху архитектурного эклектизма, – когда наследники богатых предков, византийские греки, в постройках своих старались совместить все, что досталось им от отеческого искусства. Нельзя было не пожелать, чтоб эта возвышеннейшая и лучшая часть единственного из храмов христианских некогда была восстановлена в первобытной красоте; пожелать, чтобы вся церковь была открыта и освобождена от всех заделок и привесок, перегородок и загородок – значило бы пожелать невозможного – если не навсегда, то еще на долгое время.
От меньшего купола я перешел к большому, накрывающему собою часовню Гроба Господня. Состояние, в каком он находится, по справедливости, возбуждает и сожаление, и страх, и негодование. Собственно, когда говорится о сем куполе, разумеется одна только верхняя часть его, т. е. свод или крыша. Свод этот деревянный и, по обширности поперечника своего, неизбежно грузный, а вслед за тем и естественно непрочный. Изнутри он выштукатурен по решети, снаружи по мелкой драни покрыт свинцовыми листами. От ветра последние во многих местах отодрались, вследствие чего и внутри во многих местах штукатурка отвалилась, обнажив безобразный остов свода и открыв доступ внутрь храма и дождю, и снегу, и всем разрушительным действиям непогоды. Опасность таким образом с каждым годом увеличивается. Находясь вчера внутри «ротонды» и озирая разодранный во многих местах свод, я неприятно испытывал все три упомянутые выше ощущения (сожаление, страх и негодование), к коим примешивалось еще четвертое чувство удивления путям Божиим. Святейшее место земли не только видимо пренебрежено, но и подвержено несомненной опасности. В то время, как идут нескончаемые споры о том, кому исправить поврежденный свод или выстроить на место его новый, христианский мир может в какой-нибудь достойный вечного оплакивания день вдруг услышать, что громада подгнившего леса обрушилась и разбила все, что было вверено ее ненадежной защите. Если нет возможности уладить дело между христианами, пусть займется им рука неверная. По греческой простой пословице, «из двух предстоящих зол надобно предпочитать (для выбора) то, которое менее худо». Возобновление Святой Софии султаном, без сомнения, во всяком христианине возбудило чувство признательности к возобновителю. То же будет и с возобновлением купола над Гробом Господним, хотя поначалу может показаться тому или другому ревнителю церкви Христовой и прискорбным вмешательство неверного в дело, столько близкое верующим.
Малое оконце, пробитое в восточной стене большого купола, обращенной к церкви Воскресения, хотя и закладенное теперь, все же оставляет в душе тяжелое чувство. Когда-то я утешен был, услышав, что в комнате за ним хранятся одни старые вещи, и более ничего. Теперь мне сказано было, что там действительно живет по временам турок, и, как турок, конечно не один… Но это ли одно оскорбляет теплое и живое чувство благоговейного поклонника в священнейшем из храмов Божиих? Первая, вопиющая нужда, падающая неотменным долгом на всех, иже во власти суть, изгнать из храма сего всякое жилище человеческое. Страх турецкой власти уже прошел безвозвратно. К чему еще запираться на ночь поклонникам? Это, возмутительное для доброго чувства обыкновение должно быть прекращено во что бы то ни стало. Все вероисповедания имеют в сопредельности с храмом свои жилища. Пусть там и ночуют поклонники, приходя в урочный час в церковь. Все равно, теперь привратник-турок отворяет уже двери церкви по особенному востребованию и в полночь и ранее полночи. Пусть он отворяет их постоянно в полночь и ранее полночи, одним словом в какой бы то ни было урочный час. Латины, всех живее чувствующие неудобства запертой безвыходно церкви, обвиняют в несовременном продолжении старого насильственного порядка вещей греков, у коих будто бы на этот счет есть тайное соглашение с турками. Подобное нарекание ощутительно веет духом вражды и озлобленности. Греки, может быть, только менее других оказывают рвения к изменению старого, для всех равно стеснительного положения вещей, боясь при нововведении утратить что-нибудь из своей собственности или из своих прав. Горький опыт научил их быть весьма осторожными. Но, как бы то ни было, и грекам, и латинам, и армянам, и самим туркам надобно спешить очистить достопоклоняемое место от нестерпимого позора. Кто бывал в Иерусалиме и хоть раз провел несколько минут во храме Воскресения Христова перед часовней, тот не только разумеет меня, но, надеюсь, и сочувствует мне вполне.
Святая Голгофа
Спустившись вниз, я на досуге при собранных мыслях и успокоенных чувствах обошел внутри храма все святыни, поклоняясь им. На тот раз в обширном здании была тишина глубокая. С высоты Голгофы можно обозревать значительную часть священной местности. Небольшого усилия нужно было к тому, чтобы перенестись мыслями ко времени, когда загроможденная теперь зданиями окрестность была полем каменистым и холмистым, как и вся почва Иерусалима. Стоя на бывшем «Краниевом» или «Лобном месте» перед изображением распятого Господа, всего естественнее воображаешь себе лицо Его обращенным внутрь храма, т. е. на запад. Но, по всей вероятности, оно было обращено к городу, следовательно, к теперешней стене предела Голгофского. Оттого, кажется, и место, где стояла в страшные минуты казни и смерти Сына Божия Его Пречистая Матерь, означенное теперь на помосте храма очертанием круга на перекрестке путей к Голгофе и Святому Гробу, едва ли не ошибочно указывается[2 - Правдоподобнее, что она стояла тут во время приготовления тела Господа к погребению на так называемом камне помазания. Но была ли она в то время здесь?]. Когда мироносицы шли зело заутра ко Гробу, путь их лежал через теперешний собор или несколько севернее его. Свет начинающегося дня должен был освещать им скалу гробовую. Страшный холм Лобный, воссиявшу солнцу, мог, впрочем, закрывать ее своею тенью, потому что событие происходило в начале весны, когда солнце бывает около средины между зимним и летним востоком, и, следовательно, почти на прямой линии от Голгофы к Богоприемной пещере. Соседство грозного места не страшило боязливых по природе, но на тот раз исполненных отваги жен. Их занимала своя мысль: кто отвалит им камень от дверей гроба? Легко представлялась в моем воображении сия малая и низкая дверь, черневшая на светлом иссеро-желтом фоне скалы, с отваленным впереди ее такого же цвета камнем, велиим зело. Трепетные жены стоят в нескольких шагах от сего камня, там где теперь все, подобные им благоговейные души, принесшиеся со всех концов мира, изливаются в теплейшей молитве, уготовав Господу вместо мира горячие слезы. Евангельских жен, без сомнения, смутило неожиданное обстоятельство. Они не знали, что ранее их прихода на том камне произошло страшное явление ангела, ужаснувшее стороживших пещеру воинов до того, что они разбежались и оставили место пустым. Мироносицы, вероятно, ничего не знали о приставленной Пилатом страже; иначе они не решились бы идти туда одни почти еще в ночную пору; по крайней мере, идя туда, не могли бы всю свою заботу сводить на вопрос о том, кто отвалит нам камень. Когда трепетные жены вошли в отверстие скалы, их взор естественно прежде всего упал на гробовое ложе, где положен был Учитель. И только тогда, как они уже не обрели в нем телесе Господа Иисуса и стали размышлять о том, что бы тут могло случиться, как бы очнувшись от овладевшего ими чувства, заметили по правую руку от себя, следовательно, у самого входа, на месте, через которое они только что прошли, светлый образ юноши. Другой такой же юноша сидел перед ними и у противоположного конца Гроба. Вероятно, при свете сих-то новых стражей и могли святые жены заметить, что в глубине иссеченной ямы не было тела Господнего. При виде тесной пещеры легко представить весь ужас пришелиц. Страшные видения были возле самих их. Не могши вынесть преестественного чувства, они пали лицем на землю, т. е. к самому мертвенному ложу необретенного ими Учителя. Дивное и преисполненное утешений видение! С теплейшим чувством признательности и невозмутимым покоем духа все человечество должно приникать к сему смертному одру Богочеловека и вместе колыбели своего бессмертия. Я не могу ничего придумать величественнее, торжественнее и радостнее сих немногих минут безмолвной встречи ангелов и человеков у гроба Богочеловека. Слышится и мне хотя в тысячном отзвуке ни с чем несравнимый и ко всем применимый вопрос бессмертного: что вы ищете живаго между мертвыми? Сколько восторгающей радости заключается в словах сих?! В них, впрочем, есть и нечто особенное, на чем невольно останавливаешься вниманием, – в них слышится как бы укор мироносицам в забывчивости или недоверчивости прямому предречению Спасителя о Его воскресении. Чем же отвечали на слово ангельское мироносицы? Страхом и радостью. Трепетало бренное естество от непривычного соприсутствия миру духовному, а сродный сему дух торжествовал. Но и то, и другое чувство вело к одному и тому же последствию – скорейшему выходу духовидец из пещеры. Изшедша из нее, скоро они бежали. Я видел воображением их испуганные и вместе радующиеся лица, освещенные восшедшим уже солнцем, их открытые для неудержимого слова, но безмолвные уста, их бег спешный и неровный, не управляемый волею, их уже безвременно печальные одежды, их уже не нужное более миро… Я за них трепетал от радости, предвидя близкую встречу их с Господом. Взор мой проникал сквозь стену алтаря соборного, следя за бежавшими образами благовестниц воскресения. Но у меня не достало ни сил, ни дерзновения живописать образ Самого Воскресшего, в славе Его Божества под покровом прославленной плоти. Достаточно было для меня и одного Его тихого и пронзающего сердце слова: радуйтеся. Полагают, что местом явления Иисуса Христа мироносицам был нынешний алтарь соборной церкви. Таким образом, первую речь Воскресшего можно бы было слышать с Голгофы, если бы было кому слушать ее в тот, чрезвычайный для нас, необыкновенный для земного Иерусалима день. Блаженные боговидицы не испытывали Явившегося им ни взором, ни мыслию, а только поклонились Ему до земли, обняв ноги Его. Но прикосновение к стопам Господа показало ученицам, что Учитель уже не принадлежит чувственному миру, и они снова поддались тягостному чувству страха. Господь сказал им: не бойтеся, и повелел идти с вестию о Себе к братиям – апостолам… Тихое умиление исполнило душу мою. Светлые образы вызываемого перед мысленным взором давноминувшего исчезли. Стена и мрак одни были передо мною в действительности! Оставалось припомнить вечноблажащее слово Господне: «Блажени не видевшие и веровавшие», и помолиться о том, чтобы Принявший всякую власть на небеси и на земли не отринул и моей духовной бедности от лика своих «братий», не исключил из Своего царства – единого для всех, – и для мироносиц, и для апостолов, и для боголюбивых строителей святого храма сего, сберегших в стенах его для потомства драгоценнейшую святыню земли, и для отцов наших, и для нас, и для отдаленнейших родов человечества! Глубоко трогательное явление Господа Магдалине, бывшее у самого Гроба, я переводил через сознание и сердце в минувшую ночь, когда стоял на месте мироносицы, и, подобно ей, проникал внутрь светосиянной пещеры. У той же пещеры я с живостию воображал видеть и двух апостолов, приходивших увериться в истине благовестия мироносиц. И доселе остается для меня предметом упорной думы выражение одного из них о самом себе: обаче не вниде. С навязчивым, может быть, пристрастием следящая за любимым образом любимого ученика Христова мысль моя упрекала меня, зачем я не подражал ему и не отказал себе, хотя на первый день, в удовольствии войти во Святой Гроб. Причин возникновения в душе тех или других помышлений лукавых нередко невозможно бывает доискаться. Но на этот раз механизм наваждения скоро обнаружился передо мною. Сначала я поверил добронравственности внезапного самоукорения. Но, помыслив потом о безмерном расстоянии, существующем между предметами, не идущими ни в какое сопоставление, понял, в чем дело, и ответил помыслу припоминанием одного великого исторического лица, на которое малые земли думали походить, держа, подобно ему, на сторону голову…
Спустившись с возвышенности Голгофского холма, я сквозь малое оконце пристроенной к нему стены видел самою скалу обсеченную здесь отвесно первыми строителями храма. В преддверии этой комнаты стоявшие некогда гробы царей-освободителей Иерусалима, при всем должном уважении к их памяти, и мне показались неуместными здесь. На вопрос мой, как они могли исчезнуть во время последнего пожара, мне ответили, что тогда было не до гробов людских. Просто и сильно! Пустые гробы Иосифа и Никодима свидетельствуют ясно, что даже и самые погребатели Господа, даже и святые, издревле чтимые и блажимые церковью, даже и в отдалении от Голгофы не нашли себе покоя там, где покоился некогда Владыка твари и Господь славы. Суетным ли памятникам суетной жизни дальних воителей, мечом приобретших себе суетное титло царей Иерусалима, оставаться было под одним кровом с памятником величайшего события земли? Только слепому самолюбию Европы надобно приписать то ожесточение, с каким вообще нападают на это «святотатство» греков: Годофред и Бодуен (Балдуин) для поклонников-католиков закрывают собою все другие историческое облики Иерусалима. Они носятся перед ними в воздухе от самого берега родной земли по всему Средиземному морю, беспрестанно вмешиваясь в их мысли, по крайней мере, слова, и односторонне заправляя их доброе боголюбивое чувство. Разные описания Святых мест, составленные в исключительном духе латинства[3 - Со мною была подобная книга – «Palestine», – надписываемая также: «Livre d’or». На заг давном листе ее поставлснны блестящие фигуры Годфрида и Давида могуг служить девизом всего издания. Поминутно дивишься в ней слепой односторонности писателей, за свою ученость и благочестие достойных уважения. Почти к каждой статье примешаны подвиги крестоносцев, а картинки переполнены фигурами латинских монахов. Точно Палестина есть Испания!], которыми запасается (или запасаем бывает) паломник, успевают до того предзанять его ум и сердце, что, ступая на Святую Землю, он вместо умиленного Христолюбца является там разъяренным рыцарем «Св. Стула», до которого Иерусалиму нет никакого дела. Удивляет меня всегда, как не поймет смешной стороны всего этого умный мир!
Было далеко за полдень, когда я оставил храм. Большая часть общества нашего отправилась уже в Вифлеем, откуда намерены были безостановочно продолжать путь, через обитель Святого Саввы, на Иордан. Сроком для этой поездки было утро послезавтрашнего дня, – дня, в который около обеда уже предположено было ехать обратно из Иерусалима. Я не знал, на что решиться Хотелось и на Иордане побывать, и осмотреть подробнее оба Святых Града. Последнее желание, видимо, должно было превозмочь. Я удовольствовался возможностью видеть Иордан с горы Масличной. Пользуясь четвертью часа свободного времени, я пошел в монастырь Архангельский, называемый «нашим» в беседе поклонников-соотчичей, чтоб иметь понятие частию вообще о поклоннических приютах, в особенности же о помещении нашей, пока de facto не существующей Миссии. Монастырь этот опять только монастырь по имени. В существе он – заезжий или точнее захожий двор с площадками и переходами вниз и вверх, с закоулками и захолустьями, тесный и мало опрятный, опаляемый жгучим тогда полуденным зноем и поражаемый лучами солнца, отражавшимися на белых стенах его келий. Встречавшиеся мне лица все были поклонники. От них я едва доспросился, где тут церковь, хотя стоял возле самой стены ее. Так она мало похожа на храм Божий. Заглянув в две-три комнаты и встретив там добрую Русь нашу во всяких положениях, я напрасно добивался узнать, где находятся келии архимандричьи и может ли кто-нибудь показать их мне. На все вопросы был один ответ: «А не знаем, мы здесь странные». Походив таким образом по террасе около церкви и напрасно прождав кого-то, кто обещался достать ключи от келий и исчез вместе со своим обещанием, я отправился к себе на квартиру. Там уже готовы были к отъезду в Вифлеем. Если бы читатель присутствовал при нашем отправлении из одного Святого Града в другой и имел терпение сопутствовать нам туда, он бы не раз почудился тому, как боголюбивый поклонник ежеминутно готов бывает иногда превратиться в себялюбивого туриста. И это тоже Русь, и тоже добрая, но она уже не говорит: «Мы здесь странные». Ей почему-то все воображается, что она у себя дома, и что ее слово тут закон. Говорю это для того, чтобы читатель, в какую-нибудь летучую минуту умиления, не составил ложных заключений относительно своей природы нравственной и не подумал, что достаточно дохнуть кому-нибудь священным воздухом, чтобы вдруг, так сказать, переродиться.
Мы выехали из города около вечере теми же самыми воротами «Давидовыми», которыми и въехали вчера в город из Яффы. Но сейчас же за стенами Иерусалима дорога разделилась на две ветви: северо-западную и южную. По первой мы ехали вчера, по второй направились сегодня. Она немедленно повела нас в ложбину, которую мы должны были пересечь диагонально. По мере отдаления от жилищ человеческих, всегда стесняющих своим временным и местным характером полет мысли, передо мною начала вскрываться историческая картина древнейшей жизни народа, ставшего своим всякому христианину. Лица Авраама и Мелхиседека, несмотря на яркое освещение их бытописанием, не представлялись мне в желанной близости. Напротив, образы Давида и Соломона выступали в чертах яснейших. Мы ехали по местности, где при первом были сады, памятные всем, кто знает историю сего царя, а при втором – пруды, известные под его именем и также памятные. Лощина, загибаясь к востоку, все делалась глубже и, обойдя Иерусалим с южной стороны, соединялась с долиною, носящею имя Иосафата, по которой в зимнее время течет ручей или поток Кедрский столько известный по Евангелию. За местом соединения двух рытвин начинается великое ущелье, идущее до самого Мертвого моря. Обозревая все это с противоположной Иерусалиму высоты, я припоминал грустную историю царей Давидова рода с их непостижимою страстью к идолопоклонству; и опять с любовью возвращался к их родоначальнику, который на этих самых местах стоял некогда с своим войском, осаждая возвышавшийся по ту сторону оврага замок Иевусеев, и, взяв его, перенес сюда столицу своего царства. С тех пор место это прикрепило к себе судьбы человечества. Пытливости моей усильно желалось взглянуть на него из современности Соломоновой. Какою жизнью кипела тогда эта глухая пустыня, и какою благодатью веяла эта сухая земля! А каким истреблением была поражена потом! И какими потоками крови напоена – до пресыщения!
Вид на Иерусалим и Сион с горы Злого Совета
Дорога в Вифлеем
Дорога наша за Иерусалимом шла возвышаясь, по наклонной к нему равнине, обращенной в пахотные поля, и потому в настоящее время года сухой и обнаженной. Вправо, назад не было ничего, на чем бы можно было остановиться вниманием; зато налево горизонт расширялся далеко, оканчиваясь сизыми горами Аравии, впереди коих полосою особого цвета как бы легкого тумана или сгущенного воздуха обозначилась впадина незримого Мертвого моря. К югу, впереди нас, виднелась роща, окружающая четыреугольник стен, довольно мрачных. Мы скоро достигли его. Это есть греческий монастырь Святого пророка Илии. При нашем приближении раздался там звон колокола, приглашавший нас к отдыху в стенах обители. Но вечеревший уже день не позволил нам воспользоваться дружеским приглашением. Усердные отцы вынесли нам на дорогу воды и варенья – у места, где отдыхал некогда пророк. Это самая высшая точка на пути между Иерусалимом и Вифлеемом и находится почти на половине его. Отсюда видны оба священные места. Оба города Давидовы лежат на склоне одного и того же горного хребта. Только у Иерусалима этот склон спускается обрывом в узкую юдоль, а у Вифлеема расстилается широкою долиной. Место, на котором мы были, отлично годилось бы для уединенной, созерцательной жизни. Оно ждет своего Иеронима или Дамаскина.
С перевалом на Вифлеемскую сторону нам открылась более радующая взор картина. Повсюду виделась зелень в виде то масличных рощиц, то виноградников, то отдельных мелких кустов. Направо, в отдалении невольно бросилось мне в глаза огромное белое здание, казавшееся издали дворцом, в несколько ярусов и со множеством окон, возвышавшееся на косогоре поблизости одной деревни. Это – местопребывание латинского лжепатриарха Иерусалимского и вместе семинария. Зоркий и расчетливый о. Валерга избрал место, по-видимому, всего менее благоприятное для его замыслов. Соседняя деревня вся состоит из православного арабского населения, и до сих пор упорно отбивается от навязчивого пришельца, с которым даже завязала процесс за место, где выстроена его резиденция. «Но, – прибавил со вздохом, сообщавший мне эти сведения рассказчик, – дело кончится тем, что он их совратит. Так же было в Вифлееме. У кого есть деньги, тот если не убедит, то купит». Жаль, если это сбудется! Что бы ревнителю веры Христовой поселиться где-нибудь между мусульманами и действовать на них оружьем, каким хочет! Верно слово Господне: ин есть сеяй, и ин есть жняй. Пожинаете вы чужую жатву, незваные жнецы, но приходит ли вам на мысль, что и ваш посев на этой таинственной своими судьбами земле также может быть снят другими жателями? Я не говорю более. Меня, как и вас, радует мысль, что это несчастное поселение получит какое-нибудь образование, столько нужное для страны, где оно живет. Но потомки наши увидят, на что обратит оно этот обоюдоострый меч.
По мере приближения нашего к Вифлеему нам стали встречаться окрестные жители. Мужчины удивляли меня своим блестящим нарядом. Хитоны их с широкими рукавами самого яркого красного цвета бросались в глаза издалека. Была пора собирания маслин, и потому мы могли видеть целые кучи народа, рассыпавшегося по садам и пестревшего на зелени своими пунцовыми рубашками и белыми чалмами вперемежку с голубою одеждой женщин. В оттенок этой живой и пестрой картине нам встретились верстах в двух от города прогуливавшиеся четыре капуцина в кофейного цвета одежде с открытыми головами. Приветливо раскланиваясь с ними, я думал себе: вам ли, с ног до головы непохожим на это население, когда-нибудь сойтись с ним? Полагаю, что и они не остались в долгу и тоже в след меня послали какую-нибудь, не лестную для меня думу. В полусвете оканчивавшегося дня явился, наконец, передо мною Вифлеем, присно веявший на меня тихим чувством невозмутимого покоя. Как у ребенка нет слов при встрече с давно невиданною матерью, так у меня не излетало ни одного привета навстречу пленительному образу. На тот раз я знал и помнил одно только слово: Вифлеем. В нем, казалось мне, заключается уже все, чем бы я ни придумал заявить свой сердечный лепет. В виду Вифлеема неизбежно младенствовать. Мне кажется даже, что горе тому, кого вертеп и ясли не возвращают к его собственному детству, и не усыпляют как песнь матери в колыбели безмятежной веры.
Вифлеем
Городские врата Вифлеема
И вот я в Вифлееме! Отроча младо и Матерь-Дева, вертеп и ясли, ангелы и пастыри, звезда и волхвы, Ирод и младенцы, – здесь, здесь все это было! Не дивись слышать глагол сей странный. Ты точно в Вифлееме, пришелец отдаленный! Эта земля – Вифлеем и эти хижины – Вифлеем! Эта улица, полная народа, – Вифлеем! Уже не мыслимый, не рисуемый воображением, не сновидимый, не начертанный резцом или кистию, а истинный Вифлеем, где Христос родился! Опять вчерашнее очарование, и опять борьба! Что это столпился тут народ вокруг каких-то пришельцев? Уж не пастыри ли это, вопрошающие, где родился им Спас? А эти развьюченные и отдыхающие верблюды, – уж не пришли ли они из Персиды и не принесли ли на хребтах своих злато и ливан и смирну… Но есть всему чреда, есть она – и увлечению. Нынешний Вифлеем не заслуживает имени города ни даже местечка. Он есть селение и притом небольшое и невзрачное. Единственная улица его крива, тесна и, как везде на Востоке, неопрятна. Мы нашли ее оживленною народом, высыпавшим из домов, может быть, ради праздничного дня, может быть, ради вечерней прохлады. Присматриваясь к пестрой толпе, я удивлен был скромным нарядом двух или трех жешцин (христианок, ибо лица их были открыты). Как рубахи мужчин напомнили мне хитоны апостолов, сохраненные до нашего времени иконописным преданием, так синее покрывало женщин с прямыми складками по сторонам лица, спускавшееся на плечи и обхватывавшее весь стан, живейшим образом напомнило мне одеяние Божией Матери, как принято изображать ее в Церкви от времен древнейших. Случайное или нет, напоминание это было самым благовременным напутием мне к святыне Вифлеемской. Под бесчислеными и разнородными впечатлениями дня я как бы истратил уже тот запас цельного чувства, с которым должен был предстать пред Младенца – превечного Бога. Теперь пронесшийся перед взором живой образ Приснодевы-Матери закрыл собою все, волей или неволей собранное душою, и освободил ее для принятия новых впечатлений.
Уже были сумерки, когда мы подъехали к высокой стене с крепкими воротами. Мы сошли с лошадей и изъявили желание немедленно видеть храм Рождества Христова и богоприимный вертеп. По данному знаку ворота отворились, и мы вступили на небольшой четыреугольный двор, примыкающий к церкви с южной стороны. Впереди нас отворялась уже дверь (южная) самого храма. Войдя ею в церковь, мы увидели себя как бы на балконе, с которого должны были спуститься на помост церковный многими ступенями. Зная хорошо план этого замечательнейшего из христианских храмов, я сначала потерялся в соображениях, увидев себя в громадном, но несообразно укороченном здании. Нам дали в руки зажженные свечи, и при пении греческого тропаря Рождеству Христову мы стали спускаться по мраморной лестнице под церковный помост, откуда исходил целый поток света. Спуск этот был впереди алтаря под возвышением или солеею. Сошед вниз, мы очутились в пещере неправильной формы, освещенной множеством лампад, по подобию Гроба Господня, повешенном в одном из углублений ее. В сем месте вертепа родился Господь наш Иисус Христос. Углубление перегорожено горизонтально доскою, служащею престолом при совершении литургий. Под сею доской вставленная в мрамор пола серебряная звезда с латинскою надписью обозначает место события. Из этой главной части вертепа двумя ступенями спускаются в боковую (к югу) ветвь его или придел яслей, также освещенный множеством светильников. Стоя там, я слышал и не слышал, как обязательный о. Вениамин отправлял по-русски литию, поминая при этом по обычаю и наши имена, которым, казалось, неуместно было оглашать собою священное подземелье, где раздавались первые человеческие восклицания Слова Божия. Нельзя описать того чувства, которым переполнена была душа, когда мы слушали вслед за тем по-славянски чтомое Евангелие от Луки о Рождестве Христовом, так хорошо известное, но теперь казавшееся новым от поразительного сосвидетельствования ему самого места. Помолившись и приложившись к святыням, мы осматривали святую пещеру. Она вся вымощена мрамором равномерно, и стены ее до некоторой высоты также одеты мрамором, но свод оставлен таким, каков, вероятно, всегда был. Впрочем, он закрыт от любопытного взора подвешенною к нему материей, довольно убогою и старою. Сделано это, как говорят, в предотвращение покушений поклонников отбивать себе на память по кусочку от священной скалы. Этим объяснением может успокоить себя тот, кому бы хотелось, чтобы вертеп оставался доднесь в том самом убожестве, в каком был во времена Христовы.
Вифлеем. Площадь перед храмом Рождества
Пещера Рождества Христова
Мы уже намеревались идти обратно в церковь, как нам предложено было возвратиться в нее подземными переходами латинского монастыря. Заблаговременно дано было знать о том «фраторам», а потому на первый стук вожатого нашего в небольшую дверь, находящуюся с северной стороны вертепа, она отворилась, и мы пошли узким переходом, направляясь все к северу, за каким-то монахом, лицо которого дышало добротою и усердною готовностью. На пути нам показывали комнатку блаженного Иеронима, не украшенную ничем и вероятно оставшуюся такою, какою была при подвижнике, и невдалеке от нее – другую комнату двух учениц его: Павлы и Евстохии. Великий муж, краса и слава латинской Церкви, может быть почитаем родоначальником всех, спустя после него несколько веков двинувшихся в Святую Землю латинян. Он первый показал Востоку характерное несходство двух половин Христовой Церкви восточной и западной. Не с него ли начались те нескончаемые споры греков с латинами, которые, к позору христианства, окружают и колыбель, и гроб Спасителя мира доселе? Отзыв о нем Лавсаика как «о человеке неуживчивом», повидимому, может подтверждать мысль эту[4 - Лавсаик. гл. 68. Латинский переводчик Лавсаика или издатель сего перевода (Vitae Patrum. 1617. p. 774) называет автора Лавсаика за этот отзыв об Иерониме оригенистом и пелагианцем.]. В келье его, смотря на водившего нас западного инока, по-видимому кроткого и простодушного, и из обращения его с нашим вожатым, замечая их близость и некоторую степень взаимного уважения, я радовался возобновляющемуся миру в земной отчизне Примирителя. Не есть ли в самом деле величайшая несообразность отвечать на благовестные слова ангела – «Слава в вышних Богу и на земли мир», – враждою и ожесточенною бранью самых приближенных ко Христу, и по месту, и по званию лиц, Его служителей? И где же это? Пред лицом неверия посмеивающегося святейшим таинствам христианского исповедания! Знаю, что мне скажут: «Легко говорить, а не так легко сделать», – и предложат самому пожить и испытать трудность соблюдения мирных отношений между людьми, отстаивающими свою собственность и людьми, не признающими за ними сей собственности. Но и сознавая справедливость всего этого, все же можно думать, что при большей общительности и искренности настоятелей той и другой половины, значительная часть столкновений была бы избегнута. Подходя к церкви латинского монастыря, мы рассматривали сокровищницу ее. Заметив при этом, что мы на все обращаем внимание, соединенное с благоговением, добрый вожатый еще более хотел умилить нас и отдернул занавесь одного небольшого шкафа. Как же неприятно поражены были мы, увидев там лежащее на пеленах восковое розовое дитя с блестящими глазами, неподвижно устремленными на нас! Мне даже жаль стало бедного патера, который, без сомнения, заметил наше общее несочувствие к его Bambino Divino. Церкви Святой Екатерины мы не могли разглядеть хорошо при слабом свете держимых нами светильников. Из нее мы вышли в так называемые Колонны. Меня поразило зрелище неожиданное, могу сказать, хотя и давно искомое. Я был в Юстиниановом[5 - Вернее бы сказать: Константиновом. Архитектурный стиль храма указывает на время, предварившее Юстинианову эпоху.] храме Рождества Христова. Ряды колонн, при недостаточном освещении казавшихся гигантскими, перекрещивая во всех направлениях обширную залу, живо напомнили мне собою великую церковь Святого апостола Павла «за стенами» Рима. Обходя этот каменный лес, я горько чувствовал однакоже пустоту и неубранство великолепного некогда храма, теперь совсем оставленного, даже не считающегося храмом, а просто называемого Колоннами. Разумеется, я говорю теперь языком греков. По всей вероятности, латины не только не знают этого названия, но и имеют прямую выгоду или нужду называть его не иначе как храмом. Толстая поперечная стена отделяет колонны от нынешней церкви или восточной части Юстинианова храма. Малая дверь ввела нас в нее из правой боковой галереи Колонн. Когда[6 - Itiniraire de l’orient (p. 828) относит постройку стены к 1842 г. Но, разумеется, ошибочно. Ее видел уже наш паломник Мелетий Саровский в начале текущего столетия.], кем и для чего выстроена эта стена, отсекшая одну часть церкви от другой? Я не в состоянии отвечать на это, но, кажется, и нет нужды задумываться над отыскиванием ответа. Легко угадать причину появления этой неуместной преграды, – этого позорного свидетельства неуважения потомства к боголюбивому здателю. Если бы нужно было только поддержать стеною столбы, к коим она теперь примыкает, от времени может быть покосившихся, то достаточно было для этого пристроить к ним упоры, сведши их вверху сводом. Единство храма при этом осталось бы ненарушенными, но сего-то единства, может быть, и хотели избежать. Так как латинам удалось (со времен Иеронима?) завладеть северною стороной смежной с церковью земли, выстроить тут монастырь и сделать из него выход прямо в церковь (которым и мы вступили в нее), а затем, с течением времени, распространить свои притязания и на самую церковь, то теснимые и угрожаемые православные отгородили для себя существенную часть ее, пожертвовав великолепным притвором, который сделался, таким образом, достоянием ничьим, осужденный на запустение в ожидании лучшей будущности. Скажем же слова два и о сей будущности. Боязнь греков или вообще православных потерять то, что имеют, или, по крайней мере, быть стесненными, основательна или нет? Основательною, несомненно, была она дотоле, пока вопрос о владении священными местами подлежал усобному решению владеющих, и, следовательно, всякий раз мог зависеть от известного «права сильного». Теперь же, и особенно после последнего разгрома бранного, потрясшего всю Европу, из-за сего самого вопроса и доказавшего неоспоримо, что новые притязания и покушения более невозможны, можно бы, кажется, быть спокойными православным владельцам храма и возвратить своей церкви свой притвор. Но тогда латины будут иметь непосредственное сообщение с церковью? Будут с чужою церковью, проходить только через нее, когда нужно, к вертепу. Но они будут делать при этом свои церемонии? Но они потребуют, но они выдумают… Но на всякое, но существуют условия, договоры писанные и подписанные, нарушение коих, как мы недавно видели, не так легко. Еще раз повторяю: требуется искреннее объяснение. Кого и с кем? Это не мое дело знать. Латины должны признать, что весь храм есть достояние православных. Православные должны придти к необходимому убеждению, что латинов невозможно отстранить от Святого места, что они имеют право на участие в них, не правовладения или за владения во им я того или другого исповедания, той или другой народности, не право частных лиц или целых обществ, а право христиан, в котором им нельзя отказать даже и тогда, если смотреть на них как на отступников православия; потому что и вступив вновь в церковное общение с нами, они все бы потребовали себе и отдельного местожительства, и отдельного богослужения, и отдельной обрядности, одним словом, всего отдельного, вследствие своей отдельности по языку, своих исторически развившихся долговременных привычек, от которых и не должно, и бесполезно отучать их. При взаимной, законной уступчивости обеих сторон, не сомневаюсь, дело могло бы уладиться к общей радости христианского мира, и святейший храм земли получил бы достойный своей бесконечной важности вид.
Внутренний вид храма Рождества
Греческая преграда в храме Рождества
Из церкви мы отправились в прилежащий к ней с восточной стороны греческий монастырь. Мы вошли на четвероугольный двор, обнесенный со всех сторон двухъярусною галереей и рассеченный пополам крытою террасою, на которую снизу вели лестницы. С галерей нас приветствовали знакомые лица наших спутников, пришедших сюда еще днем. Уроженцы большею частью крайнего севера, они считали себя перенесенными чудом в Вифлеем и затруднялись верить, что здесь на самом деле они видят тот вертеп и те ясли, о которых столько слышали, бывало, в святки на далекой родине. Всего более мешали их простому представлению ясли, которых они напрасно искали в вертепе, хотя и прикладывались к ним. Я хотел сказать им, что если они желают видеть ясли Христовы, чтобы шли в Рим, в церковь «Святой Марии Великой», но не знал сам, что там за ясли хранятся и раз в году показываются, ибо сам не имел счастия видеть их, и потому удержался приложить смущение на смущение усердным христолюбцам. Нас ввели в большую комнату, обставленную вокруг стен низкими и широкими лавками. Там нас ожидал уже и радушно принял преосвященный вифлеемский Иоанникий, почтенный старец, недавно перемещенный сюда с другой какой-то (кажется номинальной) епархии. Около часа мы с ним беседовали о предметах, более чем общих. Я несколько раз пытался завесть с ним речь об отношениях его к монастырю латинскому, но получал от него всегда ответы весьма сжатые, так что из опасения надоесть перестал вовсе говорить о том. Часов в девять владыка пригласил нас ужинать, хотя все мы охотно предпочли бы ужину покой, в котором имели ощутительную нужду. Я же, кроме того, имел нужду и в уединении. С раннего детства слагаемые в сердце образы «Вифлеемской Ночи» вместе с сладкими песнями церковными рождеству Христову, теперь просились вон из души. Мне хотелось пересмотреть их, переговорить, перепеть. Лишь только я остался один, окруженный глубокою тишиной, хлынули из заветного тайника умилительные представления. Единственная, священнейшая ночь оная со всеми ее неисчислимыми и неизмыслимыми чудесами окружила, так сказать, меня теперь и веяла на меня своим благодатным дыханием. Я сознавал, что я в Вифлееме; и этого достаточно было к тому, чтобы всякое представление мое из круга событий той ночи получило ясность, жизнь и силу. И так, сладким представлениям и их повторениям конца не было. Но вместе с ними, по слабости естества, вызывались, или лучше, незванно появлялись и другие, тоже умилительные, только в другом роде, представления давнего детства, столь много увлекавшегося, бывало, мало понимаемым событием, но сильно чувствуемым праздником его. На устах была трогательная и любимая песнь: «Эдем Вифлеем отверзе. Приидите видим! Пищу в тайне обретохом. Приидте приимем сущая райская внутрь вертепа! Тамо явися кладезь неископан, из негожедревле Давид пити возжадася. Тамо обретеся корень ненапоен, прозябаяй отпущение. Тамо Дева рождши Младенца, жажду устави абе Адамову и Давидову». С языка лилось пение, а воображение рисовало сумерки зимнего холодного дня, тишину родного дома, любезный образ отца, со святым увлечением певшего эту самую песнь, вторимую моим, прерывавшимся от чувства голосом, и затем общее поющих усилие представить себе Вифлеем, вертеп. Тихие образы, ничем не заменимые! Рассеевая часто невпопад душу, занятую размышлением, и в один миг заставляющие ее терять собранное часами, они в то же время способны дать ей мгновенно умиление, перед которым размышление многих лет не значит ничего! Сон бежал от меня. При мерцании луны я ходил долго по галереям монастыря, и, недовольствуясь этим, выходил даже на церковный двор, где, смотря на громаду храма, старался впечатлить в памяти Вифлеем действительный взамен идеально составленного по образцам, свойственным другому климату, другим местностям, другим нравам и обычаям. Было уже за полночь, когда я возвратился в комнату.
Греческая церковь над пещерой Рождества
Понедельник, 23 сентября.
День четвертый.
В час ночи колокол позвал нас к утрени. Ее служили в большой церкви Рождества, алтарь которой устроен прямо над Вертепом. Церковь была пуста и мало освещена. Только из глубины святой пещеры широкою полосой разливался в храм свет от неугасимых лампад. И священник, и диакон глашали по временам по-славянски, в утешение общества нашего, которое всякий раз, как слышало родной язык, нарушало тишину церкви шумом удвоенных поклонов и произношением втихомолку: Господи Иисусе! Служба была непродолжительна. По окончании ее мы опять разошлись по комнатам на час отдыха. Вторичный звон собрал нас уже в богоприемный Вертеп. Литургия правилась по-русски. Пение громкое и довольно согласное, хотя и совершенно безыскусственное, было умилительно. От исключительности положения нашего мы позволяли себе делать отступление от правил церковного устава, и дружное пение всеми присутствовавшими тропаря Рождеству Христову слышалось не раз, когда положено петь совсем другое. Обедня кончилась на рассвете. На церковном дворе ожидал нас целый базар, с разного рода местными произведениями: четки, крестики, иконы всякого вида и размера из перламутра, дерева, красного камня и камня Мертвого моря (из последнего камня даже чайные чашки с блюдцами) разложены были кучами по обеим сторонам дороги. Продавцы-арабы все объяснялись с покупателями по-русски, дополняя то, чего не выражал язык, знаменательными движениями глаз и рук. Покупатели больше всего бросались на крестики. Одному удалось купить за английский червонец перламутровый крест в поларшина вышины, и лицо его сияло восторгом. «Куда ты с таким большим крестом?» – спросил я. «Приложу в свою церковь на помин своих родителей» – отвечал он. У нас ведь из святого Вифлеема кто видал что-нибудь?» Взошедши наверх в приемную комнату, мы угощались из рук владыки вареньем и прочими принадлежностями восточного гостеприимства, в то время как лежавшая на столе толстая записная книга и стоявший при ней чернильный прибор напоминали нам ясно, что за одолжением естественно следует благодарение, хотя сему последнему дан такой вид, что оно опять похоже более на одолжение, потому что с посильным приношением вписывают имена приносителей для церковного поминовения. Мы простились с преосвященным. Все мои спутники немедленно отправились прямо в Иерусалим. Я же с обязательным о. Вениамином пошел снова в церковь, которую около четверти часа рассматривал при дневном свете. Кое-где на стенах ее еще видны остатки прежнего великолепия – мозаические иконы с подписями, на коих читается имя императора Мануила: такими же иконами украшен был и притвор. Осмотрев в последнем единственный теперь замечательный предмет – базальтовую купель, я оставил приснопамятный храм, а вслед затем и монастырь, и город.
Поле пастушков близь Вифлеема
Путь мой лежал к востоку по склону горы, на которой стоит Вифлеем. Через четверть часа мы достигли пещеры, в которой, по преданию, останавливалась и кормила грудью божественного Младенца Богоматерь. Матери вифлеемские и окрестных мест берут себе землю из этой пещеры на благословение. Латины устроили в ней убогий престол, на котором и отправляют иногда богослужение, вероятно, по заказам матерей своего вероисповедания, коих в Вифлееме немало. Отсюда дорога идет несколько южнее. Еще издали мы увидели четвероугольную ограду среди поля, оживленного по местам масличными деревьями; через другую четверть часа мы были уже у нее. Это место явления ангелов пастырям в единственную ночь. Ограда сложена грубо и, видимо, в недавнее время, но в основании ее лежат большие тесаные камни; это заставляет думать, что она составляла некогда крепкое строение, которое с уверенностью можно относить ко времени построения над Вертепом великой церкви. Пространство площади, объемлемой ею, впрочем, не велико; наибольшее протяжение ее от запада к востоку. Близ северной стены, внутри ее, кучи камней свидетельствуют о бывшем там здании: тут была церковь. Место алтаря обозначается ясно. Стоя в черте его, я, несмотря на ослепительный блеск солнца, старался представить себе глубокую, холодную ночь. Думалось видеть тут неподалеку сжавшееся в кучу и спавшее стадо овец, а на месте, где я стоял, стерегших оное пастырей. Спутник, вожатай мой, понял мою мысленную работу и сказал мне: «Полноте! Мы еще не там, где было явление». Он указал на малое и глубокое отверстие в земле, почти возле самого меня, и сказал: «Там было то, что вы воображаете». – «Как и в земле?» – «Да! т. е. в пещере». Мы сделали несколько шагов к западу и увидели широкий спуск под землю. Сошедши вниз, очутились в полумраке пещеры, освещаемой несколько со входа и сквозь упомянутое отверстие в своде. Впереди нас стоял бедный иконостас. Осмотревшись, я увидел и другие принадлежности церкви. «Здесь вы видите пещеру евангельских времен, во всей ее первобытной неприкосновенности», – сказал мне спутник. Пещера, видимо, не носит на себе никаких следов обделки; было поразительно смотреть на это подземелье и думать, что таким оно было и в святую ночь ангельского благовестия. Но прежде я никогда не воображал, чтобы ангельское славословие раздавалось под землею. «Кто же сказал вам, что здесь, в подземельи было явлете?» – спросил я спутника нетерпеливо. «А кто же сказал, что не здесь, не в подземелье?», – возразил он. Никто не сказал ни того, ни другого. Я это знал хорошо. Заметив мое недоумение, спутник прибавил: «Приезжайте сюда зимою, и тогда увидите, оставляют ли здесь пастухи стада свои на ночь под открытым небом. Да и там, где вы живете, я думаю, то же самое делают». Я вспомнил, что это действительно так бывает. Но ведь речь не о стаде, а о пастухах, стерегших стадо. Была ли им нужда проводить ночь вместе со стадом в духоте и тесноте, или они, загнав стадо в пещеру, стерегли его поверх земли? Последнее казалось мне вероятнейшим. Во время этих размышлений в подземелье явился престарелый священник в рясе и чалме. Немедленно он надел на себя эпитрахиль, отдернул завесу царских врат и начал петь и читать литию. В первый раз я видел арабского священника и арабское богослужение. Все меня при этом занимало: и суетливые движения старца, превосходившие живостью даже греческие, и наряд его убоже убогого, и речь его, дико звучащая, и слово: «ыскэндер», различенное мною на эктении и произнесенное с особенным усилием, и взор его, в котором уже едва светился лучь жизни. Дрожащими руками взял он потом с престола ветхое рукописное Евангелие, и сказав по-гречески едва различаемым выговором: «От Луки Святого Евангелия чтение», – начал читать по-арабски повествование евангелиста о явлении ангелов пастырям. Не разумея слов, я понимал чтомое по выражениям лица чтеца, – до того резким, что казалось, он с кем-то спорил за истину всякого выражения Священного Писания, – и частью по возвышению голоса, доходившему иногда до того, что в нем уже не слышалось старческого дребезжания, а все сливалось в один гортанный крик. Пот струился с утомленного чела старца, а открытая и поросшая седыми волосами грудь подымалась часто и высоко. Памятною надолго останется мне эта первая встреча моя с арабскою церковью. И сия ветвь православия ждет заступничества и горячего участия нашей, можно сказать, царствующей церкви. Священник этот много лет был на приходе в Вифлееме[7 - В Вифлееме четыре приходских священника. По бедности жителей, всех их содержит монастырь греческий, в свою очередь содержимый патриархиею.], но потом передал место сыну, и теперь живет на покое, если можно назвать покоем то, что он может ежедневно, и даже не по разу, бежать из Вифлеема к пещере вслед поклонников, чтобы прочесть им Евангелие и получить что-нибудь за труд.