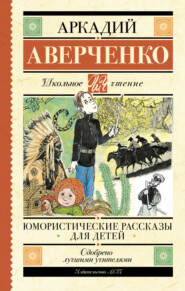По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Король смеха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но тогда – позвольте! Тогда и экспромтная история с «Дубинушкой» подмочена; тогда и казус с коленопреклонением очень мне подозрителен: да точно ли это бурные, неожиданные, сразу налетевшие шквалы?!
Не было ли так:
1905 год. Кабинет жандармского полковника…
Курьер докладывает:
– Господин Шаляпин хотят видеть!
– А-а… Проси, проси!.. Какому счастливому событию обязан удовольствием видеть вас, Федор Иваныч?
– Да так… зашел просто поболтать, – сочным басом отвечает знаменитый певец. – Ну что, революцией все занимаетесь, крамолу ловите, хе-хе-хе?
– Да, хе-хе-хе! Приходится.
– Дело хорошее. Небось, все молодежь, все горячие головы?..
– Да… большей частью.
– Небось, все «Дубинушку» поют?
– Бывает.
– Что ж вы им за эту «Дубинушку»? Небось, в каталажку?
– Ну что вы! «Дубинушка» – дело у нас невинное… Ну сделаешь замечание, ну поставишь на вид…
– Только-то? Ну я пойду. Не буду мешать.
И в тот же день Шаляпин бодро, грозно, эффектно, с большим революционным подъемом спел «Дубинушку».
А окружающие объясняли: такая минута подошла, когда даже камни вопиют.
* * *
А в лето 1909 года позвал однажды Шаляпин своего портного, вероятно, того же самого Гаврилу, и сказал ему:
– Завтра к спектаклю нашей мне на коленки штанов, которые будут на мне, нашей изнутри по ватной подушечке. Так, чтобы на самые колени приходилось!..
– Да ведь некрасиво, Федор Иванович… Выпучиваться будет.
– А ты не рассуждай. Политика, брат, дело высокое, а ты – кто? Смерд. Илот.
* * *
Такое мое мнение, что, когда Юденич войдет в Петроград, в первом ряду восторженного населения будет стоять Шаляпин и, сверкая чудесными очами, запоет сочным басом «Трехцветный флаг» Мирона Якобсона.
– Вот тебе и Шаляпин, – благоговейно скажут в толпе. – Не выдержало русское сердце – запел экспромтом что-то очень хорошее!
А экспромт этот был задуман в тот самый день, когда Гаврила погоны подпарывал: Гаврила погоны подпарывал, а Исайка в этот самый момент по поручению своего патрона тихо пробирался через границу в зону расположения Добровольческой армии – за свеженьким экземпляром «Трехцветного флага».
* * *
Ах, широка, до чрезвычайности широка и разнообразна русская душа!
Многое может вместить в себя эта широкая русская душа…
И напоминает она мне знаменитую «плюшкинскую кучу». У Гоголя.
Помните? «Что именно находилось в кучке – решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывались оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога»…
Так и тут: все свалено в самом причудливом соприкосновении: царская жалованная табакерка с вензелем и короной, красная тряпка залитого кровью загрязненного флага, грамота на звание «солиста его величества», ноты «Интернационала» – и тут же заметно высовывается краешек якобсоновского «Трехцветного флага».
Мала куча – крыши нету!
Керенский
(Первый портрет)
Человек со спокойной совестью
Существует прекрасное русское выражение:
– Со стыда готов сквозь землю провалиться.
Так вот: я знаю господина, который должен был бы беспрерывно, перманентно проваливаться со стыда сквозь землю.
Скажем так: встретил этот господин знакомого, взглянул ему знакомый в глаза – и моментально провалился мой господин сквозь землю… Пронизал своей особой весь земной шар, вылетел на поверхность там где-нибудь, у антиподов, посмотрел ему встречный антипод в глаза – снова провалился сквозь землю мой господин и, таким образом, будь у моего господина хоть какой-нибудь стыд – он бы должен всю свою жизнь проваливаться, пронизывая собою вещество земного шара по всем направлениям…
Но нет стыда у моего господина, и никуда он ни разу не провалился; вместо этого пишет пышные статьи, иногда говорит пышные речи, живет себе на земной коре, как ни в чем не бывало, и со взглядами встречных перекрещивает свои взгляды, будто его хата совершенно с краю.
А ведь вдуматься – черт его знает, что взваливает жизнь на плечи этого человека:
Умер поэт Блок – он виноват.
Расстреляли чекисты 61 человека – ученых и писателей – он виноват.
Умерли от голода 2 миллиона русских взрослых и миллион детей – он виноват в такой мере, как если бы сам передушил всех и каждого своими руками.
Миллионы русских беженцев пухнут от голода, страдают от лишений, от унижений – он, он, он – все это сделал он.
Господи боже ты мой! Да доведись на меня такая огромная, нечеловеческая страшная ответственность, я отправился бы в знаменитый Уоллостонский парк, выбрал бы самое высокое в мире дерево, самую длинную в свете веревку, – да и повесился бы на самой верхушке, чтоб весь мир видел, как я страдаю от мук собственной совести.
А мой господин, как говорят хохлы: и байдуже!
Наверное, в тот момент, как я пишу, сидит где-нибудь в ресторанчике «Золотой Праги», кушает куриную котлетку с гарниром и, запивая ее темным, пенистым пражским пивом, не моргнув глазом, читает известия из России:
– До сих пор голод унес до трех миллионов русских. К декабрю должны умереть около десяти миллионов, а к марту, если не будет помощи извне – перемрет вся Россия. («Общее Дело». Письмо из Петербурга.)