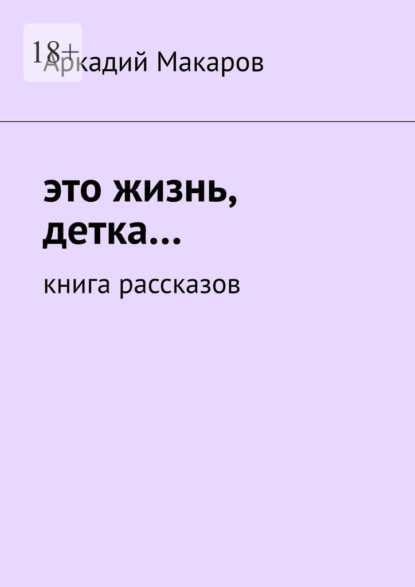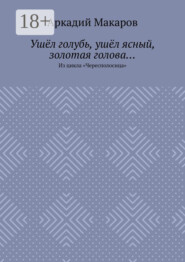По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Это жизнь, детка… Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Саша не пьет. Выжидательно смотрит на меня. Не улыбается. Вот, мол, смотри, что негодяи с защитниками Отечества и русской веры сделали! А при словах «И в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в номера» горько мотает русой головой, наливает полстакана самогонки, резко откидывается, вливает в себя содержимое, опять горько качает головой, ловко, двумя пальцами, подхватывает в трехлитровой банке огурец собственного посола и медленно всасывает его сердцевину, растворившуюся от рассола – самый смак для выпивающего.
Саша сидит, как истинный участник тех далеких трагических событий. Сейчас он князь Оболенский, попавший в окружение большевистских банд. Он будет отстреливаться до последнего патрона. До самого смертного часа.
Саша наливает еще стакан, предлагает мне, затем безнадежно машет рукой и выпивает сам.
Горючего осталось мало. Боеприпасы кончаются. Кругом залегли комиссары.
Ах, русское солнце! Великое солнце.
Корабль «Император» застыл, как стрела.
Поручик Голицын, а может, вернемся?
Зачем нам, поручик, чужая страна?
Саша обхватывает голову руками, и первая, самая светлая слеза на его белесых, выгоревших ресницах.
Он держит голову руками и тихо стонет, но уже над другой песней о земляках-казаках.
– Сволочи! Всех порублю! Всех!
Мне тоже почему-то захотелось выпить за русскую былую славу, за оплот Российского государства, за казачьи засеки, секреты и заставы. «Россия лежит на черпаке казацкого седла».
Я наливаю себе вонючий, пахнущий дурнотой перегон и тоже выпиваю, подхватив, как и Саша Дмитриенко, небольшой одутловатый огурец, и высасываю его сердцевину. Нет! Надо идти домой, в семью. Так здесь не мудрено и спиться. Саша берет меня за плечи. Снова трясет головой. Божится к праздникам починить лодку и уплыть к… (он говорит самую распространенную русскую фразу и валится на диван).
А дома меня ждала радость. Привезли поросенка. «Хапает и хвостик в завиток», – значит, зимой мясо будет…
Вечер теплый, ровный, обещает долгое лето, выманивает меня на улицу. Жена приказывает, чтобы долго никуда не ходил, вот она уложил родителей спать, и мы пойдем к старой сосне на Дон посумерничать. Посмотреть, как, успокаиваясь, засыпает вода, не сразу, исподволь. В сладкой дремоте она нет-нет, да и всплеснет, опомнившись, широким, как новая лопата, лещом или, вспомнив что-то веселенькое, прыснет в рукав серебристой верховкой…
А Саша Дмитриенко все никак не наладит лодку, и мои снасти пылятся, еще ни разу не видевшие воды.
Стою, навалившись грудью на палисадник, и наблюдаю сказочный тихий закон над Доном. Темно-красная занавеска от земли до неба еле держится на одном гвозде, сверкающая шляпка которого так и впилась в нерукотворный атлас – звезда вечерняя. Смотрю умиротворенный в долгожданном одиночестве, философствую про себя. Хорошо!
Вдруг из призаборного куста шарахнулся в мою сторону неопределенного вида человек.
– Ах ты сволочь! – это ко мне. – Ты зачем Колюню напоил? Брата моего. Из-за тебя он в Ельце в отсидке рюхается. Он, Колюня, как выпьет – звереет. Горячий! Особо если недопил. Его надо сразу с ног валить. К утру очухается и человек человеком! А так – бес рогатый. Маманю чуть топором не зарубил. Она весь огород стоптала. Козел! – потом опять ко мне. – Дай десятку!
Я в растерянности не мог выговорить ни слова. Ни вчера, ни на прошлой неделе я никого не поил, да и сам уже забыл, когда пил.
Передо мной стоял малый лет тридцати. Несмотря на вечернюю прохладу, в майке с узкими, как на бабьей рубахе, плечиками. Карманы оттопырены. Что-то там уже плескалось. Растрепанный его вид говорил, что парень решительно возбужден.
– Не знаю я никакого Колюни! Сашу Дмитриенко знаю. Калину – знаю. А Колюню – нет, не знаю. Еще не успел познакомиться, а теперь вряд ли познакомимся. А ты все – Колюня да Колюня! Не поил я никого!
– Во, точно! Я же тебе говорил, что ты не Серега Митрофанов! Так я гляжу, вроде это не ты. А так – вылитый Митрофан! Мы с Колюней близнецы. Только я старше его, а он, гад, меня не слушает! Я первый родился. На три часа раньше. Пусть он, сука, в Ельце колотится. Маманю чуть не зарубил. Весь огород вытоптали! Я вот и приехал с Урала маму проведать. Она в Хлевном в больничке лежит. Говорят, поправляется! – он, как противотанковую гранату, вытащил из широкой штанины уже початую, судя по всплеску, и хорошо початую, бутылку. По всей видимости, самогон.
– Давай за знакомство! Я угощаю! А завтра и ты меня опохмелишь. Давай! На! – он вытащил зубами бумажную пробку и протянул бутылку мне.
В другое время я, может быть, и помог бы разделить с ним печаль по Колюне, но не теперь. Странно, но я перестал любить состояние опьянения, оно стыло вызывать у меня чувство отвращения и, конечно, после длительного воздержания не хотелось бы вот так нырять в темную воду.
Я отрицательно покачал головой, возвращая бутылку странному незнакомцу.
Он с искренним удивлением взглянул на меня:
– Ты что? Правда, не будешь?
– Нет, не буду! – сказал я, как можно суше и короче, чтобы отвязаться от неожиданного благодетеля.
– В перстнях… С печатками, – сказал он с обидой. – Крутой, что ли? Дай четвертак!
– Крутой. Круче бараньих яиц. Сотню тебе не разменять? А мелких у меня не водится, – сказал я, намереваясь идти в дом.
– А-а… Так и сказал бы. А я тебя с Митрофаном спутал, – сразу протрезвев, подался по своей извилистой дороге говорливый незнакомец, Колюнин брат.
А закат все висел и висел, тяжелея понизу темной бахромой. Сверкающий гвоздь все так же торчал в темнеющей синеве теперь уже ночного неба, только блеск его стал еще чище, еще блистательней. Венера в полной фазе.
Вот и кончился еще один день и еще один вечер моей деревенской, хлопотной жизни.
ЗАДОНСКОЕ ПОВЕЧЕРЬЕ
…И от сладостных слёз не успею ответить, к милосердным коленям припав.
Иван Бунин
В Богородческом храме светло. В Богородческом храме солнышко играет. Поднимешь взгляд – зажмуришься. Певчие на хорах в канун праздника Иоанна Предтечи ему славу возносят, – как хрусталь поёт. Двери храма распахнуты. Вечерний воздух столбом стоит. Свечи горят ровно, пламя не колышется. Высок купол – глаз не достаёт. Дышится легко и радостно. Велик храм. Богат храм. Золота – не счесть! Тонкой работы золото, филигранной. Одежды настоятеля серебром шиты, новые. Нитка к нитке. Где ткали-шили такую красоту – неизвестно. Женская рука терпелива. Тысячи серебряных ниток вплести надо, узор вывести. Серебро холодком отдаёт, голубизной воды небесной, свежие и чистые ключи которой из-под самого зенита льются, душу омывают. Всякую пену-мусор прочь относят.
Богородческий храм при мужском монастыре стоит. Угловым камнем при том монастыре, отцом основателем которого был Господень угодник, чудотворец Тихон, на земле Задонской просиявший. Вот и реликвии его здесь – рака с мощами, одежды ветхие церковные, икона Его – с виду казак, борода смоляная, глаза острые, пронзительные; всё видят, каждый закоулок сердца, как рентгеном просвечивают. Спрашивают: «Кто ты? Для чего в мире живёшь? Какой след после себя оставишь? Как по жизни ходишь – босиком по песочку белому донскому, или в кирзовых сапогах слякотных – да по горенке?..»
Стою, смотрю, душа замирает!
Монахи в одеждах чёрных, вервием опоясаны – и старые, и молодые, но молодых – поболее, взгляд у них посветлее, не печальный взгляд затворника-старца, а человека мирского – не всё ещё улеглось, умаялось.
Вон невысокий плотный парень, скуфья на нём тесная, ещё не застиранная, тело на волю просится… Стоит, перебирая чётки с кистями из чёрной шёлковой пряжи с крупными, как мятый чернослив, узлами. За каждым узелком – молитва Господу. Рука у монаха широкая, пальцы синевой окольцованы, видно не одну ходку сделал в места, далеко не святые. Татуировочные кольца замысловаты и узорчаты. А взгляд чистый, умиротворённый, наверно сломал в себе ствол дерева худого, неплодоносящего, сумел сжечь его, лишь седой пепел во взгляде просвечивает, когда он, видя мою заинтересованность собой, посмотрел на меня и, вздохнув, отвернулся, продолжая передвигать узлы на чётках, и что-то шептать про себя.
У Христа все – дети, и нет разницы между праведником и мытарем. Простил же он на кресте разбойника, утешил, не отвернулся. Раскаявшийся грешник, – что блудный сын для отца своего, вернувшийся в дом свой. Как говорил апостол Павел в послании к Коринфянам: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом… Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».
Не знаю, долго ли пробудет сей монах в послушании, но знаю точно – в новые меха старое вино не вольётся. Причастность к высшему разуму выпрямила путь его, поросший терниями.
Двери храма нараспах, как рубаха у казака в жаркий сенокосный день. В алтаре Христос-Спаситель на верховном троне восседает. Вседержитель.
Глаза тянутся смотреть на Него, прощения просить за жизнь непутёвую, за расточительство времени, отпущенного тебе, за содеянные неправедности. И сладко тебе, и стыдно, и горько за утраты твои. Неверным другом был сотоварищам, нерадивым был для родителей. Не согрел старость их, слезы мать-отца не отёр, в ноги не поклонился… Суетился-приплясывал. Рукоплескал нечестивому, в ладони бил. Просмотрел-проморгал молодость свою, весну свою невозвратную. Цветы срывал, раскидывал. Разбрасывал на все стороны. Руки не подал протянутой тебе. Со старыми – неугодливый, с молодыми – заносчивый…
Горит храм. Пылает огнём нездешним, неопалимым. Свет горний, высокий. Оглянулся – отец Питирим стоит, преподобный старец тамбовский, земляк мой. В руке посох сжимает. Укор в глазах. Серафим Саровский рядом, борода мягкая, округлая, взгляд милостивый, прощающий. Он не укоряет, а ласково по голове гладит ладонью незримой тёплой, мягкой. Хорошо под ладонью той, уютно. Сбоку ходатай перед Господом за землю Русскую, за отчизну ненаглядную – Сергий Радонежский, прям и горд, как тростинка над речным покоем.
Молельщики и утешители наши, отцы пресветлые, просветители, как же мы забыли заповеди ваши? Землю свою, Родину ни во что ставим. Ворогу славу поём, щепки ломаем…
Так думал я, стоя в Богородческом храме Задонского мужского монастыря. До того у меня о Божьей Церкви было иное представление: полумрак, старушечий шепоток в бледном отсвете лампад, чёрные доски икон, прокопченные плохими свечами, тленом пахнет, мёртвой истомой, а здесь – торжество воздуха и света, торжество жизни вечной – «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его»…
Стою, а свет по плечам льется из просторных окон цветными стеклами перекрещённых Торжество во всем, величие веры православной!