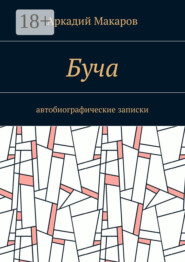По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Игры во времени… Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока то да сё – закрутился мужик, гость его из головы выскочил.
По случаю досрочного выполнения плана посевной митинг был. Речи всякие произносили. Заслушался мужик, а в это время ему мягко так кто-то ладонь на плечо и положил. Оглядывается мужик – знакомый его стоит, только теперь в рубашке простенькой на выпуск, да в сандалиях на босу ногу, вроде, из соседнего села по обмену опытом приехал. Моргает мужику – давай, мол, отойдём в сторону, потолкуем. Мужику делать нечего, отошли в сторону, сели на лавочку. Михаил Архангел и говорит:
– Слышал я, слышал, как ты на посевной-то трудился, документы, говорят, тебе к награде делают. Это хорошо. Не обманулись, значит, мы в тебе. Собирайся, дорога она хоть и не дальняя, а спешки не терпит. С долгами рассчитайся, деньги у тебя есть – премию получил, родственникам что надо прикажи, вон зятю-то опять вожжа под хвост попала, прости господи, закрутился парень. С соседями попрощайся – когда ты с ними ещё увидишься…
«Ну всё, – думает мужик, – хана! Теперь не вывернуться».
А кругом хорошо-то как: травка после дождя молодая полезла, сирень шапкой цветёт…
– Надо, так надо, – говорит, – только должен ведь я плодами своего труда насладиться. Картошка поспеет, огурчики там, да и хлебушка из нового урожая отведать хочется. Ведь сказано в Библии, что человек должен свой хлеб добывать в поте лица своего. Вот пот у меня был, а хлеба я ещё не видел. Справедливо будет, если я переселюсь в рай, а плодов своего труда, как говорится, не вкушу?
– Да нет, я не настаиваю, – замешался его гость, – только ведь свято место пусто не бывает. Ждут тебя там.
– Куда я денусь, – приободрился мужик. – Уберём урожай, сдадим хлебозаготовки государству, семенной фонд в закрома засыпем, праздник на селе сделаем, вот тогда и
приходи. Зимой, наверное, в раю хорошо, и о топке не беспокоиться, а то у нас здесь с углём плоховато – лимиты.
– Ну что ж, – пожал ему руку Михаил Архангел, – вечность, конечно, подождёт, а мне пора, вечереет – звёзды зажигать надо. – И поднявшись, пошёл прямо через огороды в сторону реки, туда, где белым паром омута исходили, да так и растаял в тумане.
Хоть и длинен летний день, а пролетает как миг один. Вот, вроде, отсеялись недавно, а уж хлеба налились тугим золотом, колос позванивает – поспел значит. Медленно потянулись, размахивая крылатками жаток, комбайны, неуклюже переваливаясь с боку на бок, как утки ожиревшие. Машин наехало – уйма! Ток расчистили. Подмели веничком, как горницу. На общем собрании заведующим током нашего мужика выдвинули, честный потому что. Ну и пошла-закрутилась работа – спать некогда. Везде глаз нужен, учёт строгий.
Как ни суетись, ни бегай, а последний разговор с пришельцем из головы не выходит.
Убрали ячмень, пшеницу, уже и до проса руки дошли. По утрам лёгкий иней ложится на стерню, – как сольцой присыпает. Поднялись в тёплые страны птицы. «Вот и мне, наверное, пора», – горестно думает мужик. А жить хочется – невыносимо! Он и по сторонам поглядывать стал с опаской: вдруг его старый знакомый опять появится? Но всё шло своим чередом: подъезжали машины, сгружали в огромные бурты урожай, шофера шутили с молоденькой весовщицей и снова уезжали, – обычная сельская уборочная суматоха. Уж не приснились ли те разговоры с тем небесным посланником? Сказка, да и только! А душа болит, червь её точит, не перестаёт.
Вот уже и просо убрали, стали на полях копны жечь – огни кругом, дым по низинам стоит. Детство припомнилось мужику, костры ночные, картошка печёная из кожи лезет, лошади фыркают, обмахиваясь хвостами то ли от духоты,
то ли от овода. Господи, хорошо-то как!
И мужик не выдержал, заплакал. Положил голову на руки, и так ему жалко себя стало. Сам уже в годах, а вот мать вспомнил – сидит у окошка кудель крутит. Уткнуться бы ей в колени и всё выплакать до дна…
Сдали хлеб государству. Даже план перевыполнили. Лето стояло, как по заказу, нужен дождь – получай дождь, солнцу пора пришла – вёдро стояло. Как будто кто в Божьей канцелярии кнопки включал.
Богатый урожай в этом году решили праздником отметить, большим застольем – чтобы самовар на столе пыхтел трёхведёрный, жаром исходил, мёд в чашках посвечивал, цветы поздние, яблоки налитые, крендели-бублики разные. Спиртного – ни капли. Зачем праздник портить. Из красного уголка кресла-скамейки вытащили, столы накрыли. Сидят разговаривают. Друг друга только по работе знали, а тут все – как на ладони. Каждый старается не глупее соседа быть.
Сидит мужик, оглядывается – нет, не видать его странного гостя. Может, другую кандидатуру нашли, или своего кого поставили. Плесканул мужик кипятка из самовара в чашку рябиной расписанную, разбавил заваркой – в самый раз, чтобы донышко кирпичом покрылось, ну и ложкой к мёду потянулся. Только хотел зачерпнуть, да председатель перебил:
– Тише, – говорит, – вот тут одна просьба ко мне поступила. Приезжий товарищ, – и показывает на сидящего рядом с ним человека в дымчатых очках с небольшой серебряной бородой. – Приезжий товарищ из центра просит отпустить с ним нашего уважаемого дядя Колю (мужика, значит, так звали). Музей у них там организовывается коневодства – кадры нужны, хомуты-уздечки чинить, сёдла подправлять, колёса шиновать, дуги, когда потребуются, гнуть – ну, всякая такая крестьянская работа. Подзабыли её в наше время. Телевизор школьник может чинить, а лошадь запрячь – разучились. Вот такие люди, как дядя Коля, нынче в цене – большой спрос на них.
Учёный представитель из центра очки снял, платочком стал их протирать, – обомлел мужик, это гость его нездешний.
Встал гость и говорит:
– Я, конечно, товарищи, понимаю – кадровый вопрос не простой, люди нужны и городу, и деревне, но мы в скором времени поднимаем рождаемость, и этот вопрос будет снят. А теперь насчёт вашего земляка… Дядя Коля пенсионного возраста, тяжело ему становится с землёй работать, да и живёт он один, как бобыль, а там мы всё строим. На оклад посадим, сдельно-то ему не под силу работать, не выдюжит, да и на подряд уже поздно переходить, здоровье не то. У нас врачи хорошие – подлечим, жилплощадь со всеми удобствами при музее выделим. Руки у дяди Коли золотые и сердце отзывчивое – он и за лошадьми приглядит – напоит, накормит. Знаем мы его давно. А теперь ваше коллективное решение надо оформить, формальности утрясти.
Все с удивлением уставились на нашего мужика. За столом загалдели:
– Вот даёт дядя!
– Что же ты, сосед, молчал-то?
– Ну, хитрец, ну, хитрец! Магарыч с тебя!
– Эх, сват, сват, куда ты на старости лет рыпаешься-то? От сладкой жизни вон, говорят, зубы выпадают.
– А у него один зуб остался, чего ему бояться. Правда, кум?
Разговор разговором, а дело решать надо. Выбрали президиум. Ну поставили вопрос на голосование. Только хотели руки тянуть – встаёт заведующий молочно-товарной фермой – МТФ по-нашему:
– Товарищи, – говорит, – зима на носу, кто нам будет фураж да силос подвозить, я спрашиваю? Трактора почти
все в ремонте бывают, да и в распутицу без упряжи кормов
не доставить. А лошадей-то у нас держать разучились. А рано их – лошадей, да и дядю Колю – в музей сдавать, они ещё послужат. Моё мнение – никуда дядю Колю не отпускать. Нужен он здесь. А что касается угля, то это дело надо правлению поручить и спросить с них – почему у нас ещё ветераны труда до сих пор топкой не обеспечены?
Раздались аплодисменты. А что, верно баба говорит, без дяди Коли в колхозе – никуда. Кто на подхвате будет? Всё кругом специалисты, а он на все руки мастер и мужик безотказный. И проголосовали, как один, против того, чтобы отпускать дядю Колю на сторону.
Тут враз отчего-то громыхнуло на небе и дождь сыпанул, да крупный такой – в кулак и с градом. Все врассыпную, кто куда. Остался за столом один наш мужик сидеть. Дождь шпарит, а он сидит и улыбается. Хорошо ему сделалось! Нужен. Нужен он, видимо, здесь на земле. Ох, как нужен. Сидит мужик за столом, значит, кругом дождь, а он весь сухой, чудно, как в пузыре каком.
Задонское повечерье
…И от сладостных слёз не успею ответить, к милосердным коленям припав.
Иван Бунин
В Богородческом храме светло. В Богородческом храме солнышко играет. Поднимешь взгляд – зажмуришься. Певчие на хорах в канун праздника Иоанна Предтечи ему славу возносят, – как хрусталь поёт. Двери храма распахнуты. Вечерний воздух столбом стоит. Свечи горят ровно, пламя не колышется. Высок купол – глаз не достаёт. Дышится легко и радостно. Велик храм. Богат храм. Золота – не счесть! Тонкой работы золото, филигранной. Одежды настоятеля серебром шиты, новые. Нитка к нитке. Где ткали-шили такую красоту – неизвестно. Женская рука терпелива. Тысячи серебряных ниток вплести надо, узор вывести. Серебро холодком отдаёт, голубизной воды небесной, свежие и чистые ключи которой из-под самого зенита льются, душу омывают. Всякую пену-мусор прочь относят.
Богородческий храм при мужском монастыре стоит. Угловым камнем при том монастыре, отцом основателем которого был Господень угодник, чудотворец Тихон, на земле Задонской просиявший. Вот и реликвии его здесь – рака с мощами, одежды ветхие церковные, икона Его – с виду казак, борода смоляная, глаза острые, пронзительные; всё видят, каждый закоулок сердца, как рентгеном просвечивают. Спрашивают: «Кто ты? Для чего в мире живёшь? Какой след после себя оставишь? Как по жизни ходишь – босиком по песочку белому донскому, или в кирзовых сапогах слякотных – да по горенке?..»
Стою, смотрю, душа замирает!
Монахи в одеждах чёрных, вервием опоясаны – и старые, и молодые, но молодых – поболее, взгляд у них посветлее, не печальный взгляд затворника-старца, а человека мирского – не всё ещё улеглось, умаялось.
Вон невысокий плотный парень, скуфья на нём тесная, ещё не застиранная, тело на волю просится… Стоит, перебирая чётки с кистями из чёрной шёлковой пряжи с крупными, как мятый чернослив, узлами. За каждым узелком – молитва Господу. Рука у монаха широкая, пальцы синевой окольцованы, видно не одну ходку сделал в места, далеко не святые. Татуировочные кольца замысловаты и узорчаты. А взгляд чистый, умиротворённый, наверно сломал в себе ствол дерева худого, неплодоносящего, сумел сжечь его, лишь седой пепел во взгляде просвечивает, когда он, видя мою заинтересованность собой, посмотрел на меня и, вздохнув, отвернулся, продолжая передвигать узлы на чётках, и что-то шептать про себя.
У Христа все – дети, и нет разницы между праведником и мытарем. Простил же он на кресте разбойника, утешил, не отвернулся. Раскаявшийся грешник, – что блудный сын для отца своего, вернувшийся в дом свой. Как говорил апостол Павел в послании к Коринфянам: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом… Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».
Не знаю, долго ли пробудет сей монах в послушании, но знаю точно – в новые меха старое вино не вольётся. Причастность к высшему разуму выпрямила путь его, поросший терниями.
Двери храма нараспах, как рубаха у казака в жаркий сенокосный день. В алтаре Христос-Спаситель на верховном троне восседает. Вседержитель.
Глаза тянутся смотреть на Него, прощения просить за жизнь непутёвую, за расточительство времени, отпущенного тебе, за содеянные неправедности. И сладко тебе, и стыдно, и горько за утраты твои. Неверным другом был сотоварищам, нерадивым был для родителей. Не согрел старость их, слезы мать-отца не отёр, в ноги не поклонился… Суетился-приплясывал. Рукоплескал нечестивому, в ладони бил. Просмотрел-проморгал молодость свою, весну свою невозвратную. Цветы срывал, раскидывал. Разбрасывал на все стороны. Руки не подал протянутой тебе. Со старыми – неугодливый, с молодыми – заносчивый…
Горит храм. Пылает огнём нездешним, неопалимым. Свет горний, высокий. Оглянулся – отец Питирим стоит, преподобный старец тамбовский, земляк мой. В руке посох сжимает. Укор в глазах. Серафим Соровский рядом, борода мягкая, округлая, взгляд милостивый, прощающий. Он не укоряет, а ласково по голове гладит ладонью незримой тёплой, мягкой. Хорошо под ладонью той, уютно. Сбоку ходатай перед Господом за землю Русскую, за отчизну ненаглядную – Сергий Радонежский, прям и горд, как тростинка над речным покоем.
Молельщики и утешители наши, отцы пресветлые, просветители, как же мы забыли заповеди ваши? Землю свою, Родину ни во что ставим. Ворогу славу поём, щепки ломаем…
Так думал я, стоя в Богородческом храме Задонского мужского монастыря. До того у меня о Божьей Церкви было иное представление: полумрак, старушечий шепоток в бледном отсвете лампад, чёрные доски икон, прокопченные плохими свечами, тленом пахнет, мёртвой истомой, а здесь – торжество воздуха и света, торжество жизни вечной – «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его»…