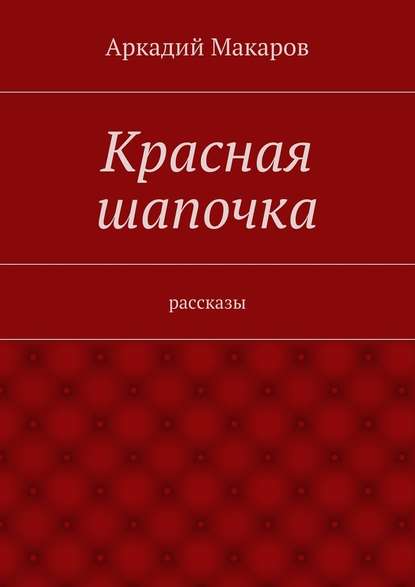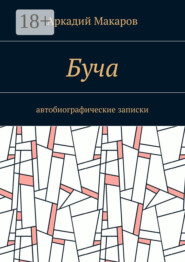По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красная шапочка. рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бабушка ушла занимать очередь в булочную, приказав и мне позже следовать за ней, чтобы взять хлеба в два веса. А очереди, надо сказать, тогда были не просто большие, а огромные. Обычно люди приходили к магазину за несколько часов до открытия, и только где-то к обеду можно, если посчастливится, подойти к заветным весам. Эта обязанность всегда лежала на мне, но сегодня бабушка решила взять две отпускные порции, одной нам всегда хватало с натягом.
Как только бабушка ушла, я положил дядю, уже одетого для службы в галифе и гимнастерку, на обе лопатки, просунул в отворот гимнастерки, как и положено, руки, просунул между ними чапельник, а затем, не без труда, завел за ручку согнутые колена – и все! Человек на приколе!
Дядя, кряхтя и похохатывая, остался лежать на полу, как перевернутый майский жук, еще не совсем понимая всю сложность своего положения.
Я, весело посвистывая, беспечно выпорхнул на улицу и убежал следом за бабушкой в магазин. Кстати сказать, стоять в очереди приходилось так долго, что однажды у меня от напряжения так расперло мочевой пузырь, а я, как все деревенские, был стеснительным и писать за углом в городе при всей ситуации, ну, никак не мог – дурак, конечно! – что потом, кое-как дотащившись до дому, никак не мог опорожниться, и моей бабушке пришлось идти за молоденькой медсестрой, только что окончившей медучилище, и она долго приспосабливалась, зажав в руках мой секулек, и все совала и совала катетер, пока я орал и корчился от нестерпимой боли. Потом пришло облегчение. До сих пор я содрогаюсь, вспомнив эти манипуляции. Зато потом я долго гордился среди своих сверстников тем, что вот это мое мужское достоинство однажды лежало в девичьих ладонях.
Так вот, я оставил похохатывающего дядю в позе майского жука, а сам преспокойно стоял в очереди с бабушкой вместе.
В этот день в булочной было особенно много народу, и нам пришлось стоять в очереди дольше обычного, за что я получил даже хороший, еще теплый довесок и теперь трусил вслед за бабушкой, перемалывая зубами вкуснейшую коричневую хрустящую корочку. Об утреннем приколе я даже и не вспомнил.
Дома меня ждало невероятное. Дядя с затекшими ногами и руками, с выпученными на красном лице глазами стонал и матерился, крутясь на одном месте, нет, не как перевернутый жук, а, как шмель, когда его, отмахиваясь, сшибешь на землю.
Бабушка с недоумением посмотрела на меня, потом, не без труда, вытащила чапельник, а дядя, перевернувшись на живот, цепко ухватил меня за щиколотку: я всей кожей почувствовал, что он меня сейчас начнет бить.
Одной рукой держа мою ногу, другой он быстро расстегнул свой широкий армейский ремень с тяжелой медной бляхой и начал охаживать так, что бабушке с трудом пришлось меня от него отдирать.
На службу он, конечно, опоздал, за что получил взыскание и денежный убыток – времена были строгие. Но уговор дороже денег! Как мы и спорили, дядя купил мне крепчайшие тапочки, пошитые из брезента с подошвой из транспортерной ленты, в которых я этот год ходил в школу до самых снегов. Износить мне их так и не удалось – нога выросла.
Чувствуя свою вину, я, конечно, зла на дядю не держал, да и он, по всей видимости, тоже – «Кабы не денежный начет, я бы тебе кожаные сандалии справил».
Дядя потом еще долго рассказывал своим сослуживцам о моей проделке и сам как-то выиграл такой же спор, только на бутылку водки, у соседа-однополчанина: за что купил – за то и продал.
Подсмеиваться надо мной он уже стал реже, хотя всегда шутил с добродушием.
Жалко дядю, он мне доводился крестным, ушел рано – подвело сердце, то ли сказалась контузия, то ли один случай, сыгравший для него роковую роль. Дядя конвоировал двух заключенных преступников из местной тюрьмы на вокзал к этапу. Стоял ясный летний вечер, привокзальная площадь была заполнена народом – пассажиры ожидали каждый свой поезд, а гуляющие горожане просто отдыхали, пользуясь хорошей погодой.
Один из конвоируемых, качнувшись в сторону, быстро нырнул в толпу и зигзагами, сшибая ошалевших прохожих, уходил в направлении железнодорожного депо. Там, за мастерскими, он был уже недосягаем.
Что делать? Ловить отчаявшегося на побег преступника – другой, оценив ситуацию, сделает то же самое. Упустить бандита – самого засудят и загонят за Можай лет на пять-шесть за пособничество.
– Не боись, начальник! Не убегу, мне жить охота, – сказал оставленный конвоируемый и тут же присел на корточки, сжав на затылке пальцы рук.
Толпа шарахалась от беглеца в стороны, образовав возле него пустой коридор. До мастерских оставалось метров двадцать-тридцать, а там – лови, не догонишь! Но люди, люди снуют! Дядя скинул с плеча карабин и первым выстрелом с колена – еще была не забыта боевая выучка – достал убегающего преступника и воткнул ему тяжелую пулю промеж лопаток. «Господь тебя спас! Господь! Не дай Бог задел бы кого, ведь люди кругом!» – сокрушалась моя бабушка, уже потерявшая на фронте самого младшего сына Ивана. Лежать ее Ивану в Витебских болотах вечно. Ни звезды, ни креста. «Господи! – вскидывалась бабушка. – Беда-то какая, беда…» Дядя сидел за столом, тупо уставившись в одну точку. Лишь только кривился, гоняя туда-сюда желваки на скулах, как будто кусал и никак не мог перекусить нитку. Сцепленные руки тяжело лежали на белой в черный крестик скатерти. Потом он, охнув, поднялся, подошел к лежанке на печи, где находилась до зимы всякая рухлядь, достал старый валенок и вытащил из голенища бутылку непочатой водки. Такой у него был загашник. Стряхнув сургуч, он вылил бутылку в алюминиевую кружку и тут же залпом выпил – бабушка слова не сказала. Выпил и, стащив через голову гимнастерку, лег на кровать, уткнувшись носом в стенку. Гимнастерка была в черных подтеках, засахарилась и коробилась жестью, как будто дядя перед этим опрокинул на себя миску с протертой смородиной.
Как раз перед этим бабушка принесла с базара целое ведро отборной черной смородины. Ягоды были крупные и лаково блестели на солнце. Поставив смородину в тенечек за домом, она велела мне обрывать с ягод засохшие жесткие соцветья «усики». Смородина была крупной, сочной, сквозь тонкую кожицу которой просвечивала темно-красная мякоть. Такой смородины у нас в Бондарях не водилось, я это знал точно. Сады, которых тогда было наперечет, я все неоднократно обыскал. Кусты смородины, если и попадались, всегда жухлые, с жестяными листьями, и смородинки на них такие мелкие, мельче горошины. За час, сидя под кустом, можно собрать разве только одну пригоршню, которую тут же и проглотишь. А эта смородина была уже собрана и сама просилась в рот, ну, просто умоляла себя потрогать и руками, и языком.
Я с редким удовольствием согласился перебирать смородину, освобождая ее от жухлых соцветий. Бабушка даже удивилась моему рвению. Она внимательно посмотрела на меня, вздохнула, зачем-то погрозила пальцем и ушла в дом. Работа закипела. Две-три смородины в таз – одну в рот, две-три смородины в рот – одну в таз. К моему удивлению, в тазу ягоды было еще много, и она уже была готова к дальнейшей обработке.
Привернув мясорубку к столу, бабушка посмотрела в таз, не сказав ничего, снова вздохнула и велела мне прокручивать смородину. Я крутил, бабушка сквозь мелкое сито еще раз протирала ягоду, и работа у нас шла чередом. В стеклянной трехлитровой банке уже было достаточно густого тёмно-красного, почти черного смородинного желе, и бабушка пошла в чулан за сахаром. Пока ее не было, я наспех, кое-как глотнул из банки, но не рассчитав, часть сока выплеснул на рубашку и этого подтека мне было уже не скрыть. Чтобы бабушка что-нибудь не заподозрила, я стал рыться в сите, где были остатки смородины, нарочно вымазав рот, руки и подбородок в ягоде. Бабушка, вернувшись, всыпала мне подзатыльник, отчего сразу же сделалось скучно, и я потерял всякий интерес к работе.
Видя мою нерадивость, бабушка прогнала меня на улицу. На солнце пятна на рубашке зачерствели, а руки стали липкими, и мне пришлось идти под колонку ополаскиваться. Руки я вымыл, а вот залитые пятна на рубашке совсем забыл, и бабушка потом их долго замывала в растворе каустика-соды – мыла не достать. Раствор делался таким, чтобы отъедало только грязь, а не кожу. Химический ожег от невнимательности можно было получить запросто.
Так вот, пятна и подтеки на выгоревшей, белесой от солнца и неоднократных стирок дядиной гимнастерке тоже были бурые, почти черные, точно такие же, как от сока смородины.
До меня тогда не доходил весь ужас случившегося. Помнится, я даже завидовал дяде, что он был на войне, что имел ранения и контузию, что у него есть настоящий карабин, и он может в любое время из него стрелять, что вот недавно убил бандита, пытавшегося совершить побег, а бандитов в то время я ужасно боялся. Ложась спать, я всегда просил бабушку посмотреть, крепко ли закрыты наши двери. Тогда тема убийств и грабежей в разговорах взрослых была не редкой. В Тамбове вовсю гуляли шайки всевозможных блатарей. Воры в законе были самыми легендарными личностями, ну, как, скажем, Чкалов, Ворошилов, Котовский…
Назавтра дядя получил денежную премию и отпуск, а скоро его свалил сердечный приступ. Первый в жизни. Дядя тогда из него насилу выкарабкался.
Всякий раз, вспоминая моего крестного, я вспоминаю и подаренные им тапочки на подошве из транспортерной ленты, которым так и не было износа…
Качнувшись и громыхнув сцеплением, автобус медленно тронулся, и мы выехали через улицы и переулки, через большой деревянный мост на песчаную и пыльную дорогу, ведущую на Рассказово и Бондари. Асфальта в этом направлении тогда еще не было, автобус, изредка пробуксовывая в колее, нещадно дымил, как будто выхлопная труба выходила прямо в салон. Но все же мы ехали. Народу на Бондари было мало: какой-то дедок, несмотря на еще стоящую жару, в выцветшей телогрейке, да пяток женщин с кошелками и узлами на коленях. Я придвинулся к окошку, обозревая с любопытством пригородный лесной массив. Для меня, выросшего в степном селе, лес и до сих пор остается загадкой и святым местом. Плывущие в бесшумном и тихом танце за окном березки, темные крыши елей – таинственное и чудное царство природы. Совсем другой мир. Мир сказок и моих детских мечтаний, грез…
– Манъка, а Маньк? – от нечего делать зевнув, обратилась к соседке сидевшая напротив меня рябоватая женщина в грубом серого цвета платке ручной вязки. Платок был старый с извилистыми тропками-бороздками – следы прожорливой моли. Баба держала впереди себя на коленях черную клеенчатую сумку, из которой торчали белые поленницы батонов и еще что-то неопределенное. – Я вот что тебе скажу. Опять живот выше носа задирается? И как это ты умудряешься всякий раз залетать? Одного бы, или двоих настрогала и – хватит! А то вон ртов сколько. Да разве этих оглоедов теперь прокормишь? Одних ложек не напасешься. Ну, ты, прям, как крольчиха.
– Да я что! Да разве этого кобеля удержишь? Его с намордником только подпускать, – вяло улыбнулась ее соседка с мятым, одутловатым лицом в коричневых разводах, как будто легкая ржавь по воде. Соседка была явно моложе первой, но тоже в стареньком самовязаном платке и в зеленой, грубой шерсти, тоже самовязаном жакете, застегнутом только на одну верхнюю пуговицу, нижние на животе не сходились, и полы жакета разъехались, показывая огромный раздутый живот, обтянутый темным сатином, где пуговицы были частые-частые, как на гармошке.
– Так вот смотрю я на тебя и думаю: зачем это она в городе оказалась? Детей в школу провожать, а она в Тамбов поскакала. Чудно! – продолжала первая женщина, та, что сидела с клеенчатой сумкой.
– Нужда заставила тащиться в такую даль, – опять улыбнулась горькой улыбкой та, что с животом. – По женскому в гинекологии была. Да что там! Нужны мы им. Они пощупали, пощупали, на рогачи поставили. Я думала: ну, все, опростаюсь. А они сказали – «Носи!» Вот я и ношу, – неопределенно развела она руками. Конечно, тяжело придется, ну какая я теперь работница? Корову за сиськи дергать еще можно, да куда я от мальца? – женщина погладила себя по животу и отвернулась к окну. – Гляди-ка, мы уже Столовое миновали, теперь к Марьевке подъезжаем! До Керши рукой подать.
Я посмотрел вслед за женщиной в широкое, в мелких трещинах, желтоватое окно автобуса. Стекло кое-где отслоилось, и в этих местах уже проглядывала чешуйчатая слюда. Автомобильные стекла в то время были двухслойные со слюдяной прокладкой между слоями, так что при столкновении с препятствием стекло не образовывало режущих осколков и не осыпалось, приклеенное к слюде. Теперь cлово «слюда», кажется, уже забыто. Теперь технология автомобильных стекол совсем другая. Стекло при ударе сразу же превращается в крошево, наподобие колотого льда на осенних лужах.
В желтоватом окне мне был виден колодезный «журавель», которого за длинную шею держала девочка, примерно, моя ровесница, пытаясь зачерпнуть ведром волу. Две косички раскачивались в такт ее движениям: «Пей! Пей, журавушка!» Но «журавель» упрямился, пить никак не хотел и вдруг резко дернулся из колодца. Ведро взметнулось вверх, прыгнуло на цепи и закачалось маятником, облив девочку с головой. Девочка щепотками вздернула платье, стряхивая с него воду, из-под платья виднелись, как перевернутая рогатка, тонкие ножки, только по воробьям стрелять. Нет, я бы этого журавля осилил, я бы заставил его пить. У меня бы он не артачился…
Но вот уплыла незадачливая девочка с острыми коленками и двумя косичками без бантиков и ленточек, только узелки по концам, и все. Это только в кино девочки такие красивые и обязательно с бантиками, а в жизни они все одинаковые, со своими птичьими руками и всегда мокрыми губами, обмеченными по краям дурнотой, «заедами». Показались низкие нахохленные, как зябкие осенние куры, под соломенными крышами избы. Многие были к зиме покрыты новой соломой, под которой будет тепло и уютно в метельные дни.
Избы нырнули за частокол деревьев и скрылись из виду. «Марьевка» – название-то какое! Не хватает еще «Ивановки», Иван-да-Марья – целый букет.
– Я вот что тебе, товарка, скажу. Ты меня слухай, слухай и не отворачивайся. Чем детей-то кормить будешь? Трудодней – никаких. Бригадир за «так» палочки ставить не будет, да ты ему – ни посля родов, тем более теперь годна не будешь. Кто пузо-то накачал, не он ли? Не Федька Шлеп-Hoгa? – услышал я заинтересованный шепот той, что с клеенчатой сумкой.
– Да нет. Куда я ему, у нас в Ивановке, – я обрадовался. Точно! Иван-Ивановка! Вот совпадение какое! Мне вспомнилось, что есть такая деревня – Ивановка, километров шесть-семь от Бондарей, но я там никогда не был, а слышать слышал, – У нас в Ивановке, – женщина смущенно передернула на животе кофту, – и без меня незамужних вдоволь. Косой не коси, сами ложатся. Война мужиков подобрала, а нам один хромой кочет достался. Ногу-то ему перед самой войной бондарец Лешка Моряк из-за Тоньки Улановой ломом перехватил. Точил на него зло Федька, а ему бы в землю Моряку поклониться надо. Он его, может, от верной смерти спас. Люди на войне головы положили, а этот до сих пор кочет-кочетом ходит. Должность хлебную получил. Один мужик на всю деревню. «Бригадир блины пек, счетовод подмазывал. Председатель блины ел – никому не сказывал», – неожиданно повеселела женщина, даже ржавь на лице подтаяла.
– Нy, а если не Шлеп-Нога, то – кто? – баба от любопытства склонила на бок голову, заглядывая своей товарке в глаза.
Та снова передернула стягивающую ее кофту и ничего не ответила.
– Во-во! Кто тебе помогать-то будет? Твоему насосу, кто тебя накачивал, может, свои оглоеды поперек горла стоят. А тебе жить надо. Четверо на лавке, да этот – она небрежно похлопала тыльной стороной ладони по животу соседке. Та тихо отстранила ее.
– Не трави, Нюрка, душу, и без тебя тошно, – опять поскучнела беременная женщина.
– А я и не травлю. Помнишь Зинку Залетку? Как же, помнишь. Царство ей небесное. Быстро убралась, и пожить не успела. Та тоже вот родила недоношенного и мучилась с ним. И малъчонка мучается, и она. Пока ее кто-то не надоумил этому недоноску под язык положить одну травку, – она на ухо тихо шепнула своей соседке название какого-то зелья. Та испугано отшатнулась, побледнев так, что ржавые пятна на лице совсем исчезли, и лило стало похоже на застывшую маску.
– Что ты, Господь с тобой, Бог накажет. Как же это, ребеночка-то?
– А что ребеночек? Он заснул – и вся недолга. Ангелочком безгрешным на небо улетел, грязи-то на нем никакой. А твой-то, – она покосилась на живот своей напарницы почему-то с уверенностью, что это будет мальчик, – неизвестно еще кем будет. Может, бандит бандитом. Ты на мово посмотри – дебошир и пьяница, пьяница и дебошир. Дурак дураком, как выпьет. Хорошо еще меня не бьет. Говорит: «Ты, мать, еще мной гордиться будешь. Я – как Ленин, – баба испугано посмотрела по сторонам. – Я, говорит, как Ленин, мать-перемать, все по тюрьмам да по ссылкам. А ты зудишь, зудишь. Дурак, говоришь? А я как иду по улице выпимши, то мне соседи в след охают: «Ох, хорош! Хорош Мишка идет!» А ты – плохой, да плохой! Так что не ссы, мать! – так и говорит – Не ссы, мать! – женщина с клеенчатой сумкой так ударила кулаком по коленям, что чуть не рассыпала свои гостинцы на замасленный железный пол автобуса и, с обидой поджав губы, отвернулась от беременной и стала уныло смотреть перед собой.
Автобус теперь уже, миновав Кершу, снова нырнул в лес. Более половины дороги осталось позади. Позади остался Тамбов с желанными родичами, с долгими стояниями в очередях, с полузабытой теперь уже обидой за несправедливость на вокзале. Я вздохнул, вспомнив, что на прощанье забыл поцеловать бабушку. С дядей я попрощайся за руку, как мужик с мужиком, а вот с бабушкой… В ушах стоял ее голос: «Касатик мой! Ласточка моя быстрая! – это когда я приносил ей лекарство в постель, или выполнял еще какую-нибудь просьбу. Бабушка была старая. – Восемьдесятый годок доживаю, слава тебе Господи! – и крестится долго-долго, глядя на темно-коричневую от времени икону Божьей Матери. – Прости меня, Заступница Усердная и сохрани чад своих неразумных. Накорми и обогрей их, заслони их платом своим пречистым. Отведи от них лихоманку, – потом, посмотрев на меня, продолжала. – Пошли им усердия, поставь на путь истинный, оборони от войны, пожара и глада, заступись за них пред Престолом Всевышнего, дети они, как есть – дети!» – потом толкала меня к иконе, заставляла встать на колени и просить прощения у Бога за грехи свои вольные и невольные, за неразумность свою в учебе, за гордыню свою окаянную и за многое-многое другое, чем виноват человек перед Господом. Божья Мать сквозь потемневшую олифу доски смотрела на меня ласково и, как мне казалось, улыбчиво, прощая все мои прегрешения. Руки у бабушки были холодные, сухие и крепкие, как клеши. Она все склоняла и склоняла мою голову к самому полу, заставляя читать вслух «Отче Наш» – одну молитву, за которую Господь прощает даже отпетых грешников. «А тебя простит тем более, не успел ты нагрешить еще… Ну, вставай. Вставай. Иди мыть ноги и ложись спать. Утром рано разбужу, за булками пойдем», – она сама, кряхтя, поднималась с колен, поправляла лампадку и уходила к себе в маленькую без окна темную спальню, отделенную от моей комнаты занавеской. Дядя обычно по вечерам никогда не был дома. «Ухожорит», – говорила про него бабушка. Дядя приходил тогда, когда я уже крепко спал
Дорога через лес была песчаной, взрытой грузовиками, и наш автобус утопал по самые колеса, ехал медленно и с натугой. Из леса тянуло прохладой и грибной сыростью. Я с жадность всматривался в прогалы между деревьями, пытаясь увидеть что-нибудь необычное, но в окне, кружась, переступали стволы деревьев да темные кустарники с уже пожелтевшей листвой.
Лес кончился так же, как и начался. Сразу стало светло, как на солнце, хотя день и был пасмурным. Впереди показалось село с обезглавленной церковью, большое и раскидистое, почти как наши Бондари. Это был Пахотный Угол, где я встретился с ней, первой женщиной, заставившей сжаться мое детское мужского начала сердце.
Сквозь стекло, возле сломанной пополам ветелки, ветер ли свалил ее, или кто заломил так, ради баловства, между прочим, проходя мимо, я увидел двух женщин – одна из них пожилая, в черной стеганой безрукавке – отчаянно махала руками, подавала знак шоферу остановиться. Рядом со старой женщиной, одной рукой держась за сломанную ветелку, стояла, покачиваясь, молодая в легком, цвета мокрой травы платье, обдуваемом ветром, как будто его обладательнице куда-то стремительно летела и не могла остановиться. Легкий крепдешин, пеленая ее фигуру в зеленые пелены, прилипал к телу, облегая полукружья ее грудей, свод живота и паховую область, пробуждая в моем подсознании досель не известные мне инстинкты. Старая, оглядываясь, что-то резкое говорила молодой и снова начинала махать руками.
Шофер притормозил как раз перед ними. Молодая с белым батистовым узелком в одной руке, неуверенно хватаясь за поручень другой, нет, не вошла, а как-то просочилась в приоткрытую дверь. Старая, зачем-то прикрыв ладонью рот, все крестила и крестила молодую в спину. Слабо улыбаясь накрашенными губами, вошедшая растерянно посмотрела вокруг и медленно, боясь как будто что-нибудь расплескать, опустилась рядом со мной на сидение, все так же придерживая узелок руками, как будто там находилось все самое ценное, что у ней было. Лицо ее побледнело так, что белая пыльца пудры резко выделялась на щеках, а улыбка стала похожа скорее на размазанную помаду, чем на проявление чувства. Не знаю почему, но на меня сразу повеяло холодом, и стало зябко, хотя на улице и в автобусе было сравнительно тепло. Как будто холод исходил от самой женщины или от ее узелка. Я инстинктивно отодвинулся к окну, сунув к себе меж колен руки, словно их прихватил мороз. Гладкая прическа и воткнутый на затылке гребень, полукруглый и коричневый, открывали ее такие белые, такие тонкие, как бумага, уши, что висячие золотые якорьки сережек, казалось, вот-вот оборвут их. Женщина как-то сразу откинулась на спинку сидения и склонила на бок голову. Сбоку мне было видно, как подрагивает ее веко.
Автобус, несколько раз качнувшись, тронулся, и мы поехали дальше. До Бондарей теперь уже было рукой подать, и я с нетерпением стал всматриваться – не покажется ли наша церковь с голубым, как раскрытый парашют, куполом. Церковь всегда показывалась первой, с какой бы стороны ни подъезжать к селу. Коротко стриженые, обкошенные поля золотились стерней. Как сараи под соломенными крышами среди полей стояли стога. Взгляду не во что было упереться, и я снова посмотрел на сидящую рядом со мной женщину. Казалось, что она заснула, и я почему-то вздрогнул, боясь, что она уже больше никогда не проснется. Дыхание ее было настолько слабым, что грудь под тонким крепдешином совсем не колебалась, только ниже, где-то под ложечкой часто-часто пульсировал родничок.