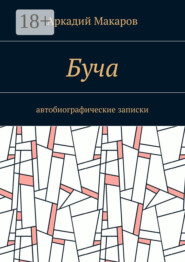По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Совсем короткая жизнь. Книга советского бытия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лейтенант же в своих подчинённых видел не только исполнителей приказов, но и боевых товарищей. Над шутками не обижался, но и сам мог подвести какого-нибудь неумеху и ротозея под смешки его товарищей.
Солдаты любили своего командира, и теперь эти двое, по счастливой случайности, уцелевшие в живых, никак не могли оставить своего «Витька» здесь до того, как сюда прибудут те, кому это положено.
Телефонным проводом связь с расположением части не установишь, а ждать вертолёт было совсем небезопасно. Двух солдат просто так, из-за чувства национальной солидарности, здесь мог пристрелить из-за угла любой востроглазый афганёнок. Они на это дело большие мастаки. Автомат для местных мальчишек являлся самой привычной и необходимой вещью ещё с пелёнок, и если какой мальчишка стрелял, то промахивался редко.
Чтобы не попасть под такой шальной выстрел, бойцам надо было срочно покидать этот мрачный кишлак, да только на чём? Сотню километров по чужой стране в такую жару не протопаешь, а уходить отсюда было надо.
– Витька бросать что ли? – повторил Гога, показывая на рогатившийся никелем руля возле одного дувала, мотоцикл советского производства с коляской.
Это был старый «ИЖ» приспособленный предприимчивым, как большинство азиатов, торговцем для перевозки товаров.
Магога направился туда, поводя Калашниковым в разные стороны, чтобы опередить нападение. Но улица молчала затаённая в своей ненависти к чужеземцам, хотя те оказались здесь вовсе не по собственной воле, а по воле политической необходимости, хотя и сомнительной. Долг солдата – упасть и не встать, чтобы на его крови был построен новый скотный двор. Новый курятник со своим установившимся порядком: кто выше сидит, тот и гадит на головы тех, кто ниже.
Немного повозившись возле мотоцикла, Магога закоротил напрямую замок зажигания и дёрнул ногой кикстартер. Мотор зачихал, задымил голубой гарью, и снова заглох.
Откуда-то из норы в тяжёлой саманной стене стали выползать на улицу люди. Видимо тарахтенье мотоцикла заинтересовало их, и любопытство пересилило страх.
Наверное, это были члены одной семьи – старик седой с узкой клочковатой бородой в длинной белой рубахе, несколько женщин закутанных в тряпьё и пара вёртких пацанов.
Люди стояли поодаль, не решаясь подойти поближе.
Мотоцикл, по всей видимости, был их приобретением. Они что-то говорили между собой, не обращаясь напрямую к солдату, который так бесцеремонно распоряжается их имуществом.
Гога, чтобы поддержать товарища, тоже направился к мотоциклу.
Вдвоем они, не обращая внимания на появившихся людей, выкатили мотоцикл на середину дороги, пробежали с ним метра два-три, и он снова взревел двумя никелированными трубами.
12
Солдаты остановились возле арчи.
– Эх, Витёк-Витёк! – приговаривали они, снимая с дерева своего командира, которому так не повезло в его короткой жизни.
Афганцы, мужчины, в любую погоду часто носят с собой, обычно на плече, свёрнутое байковое одеяло. Оно служит и молитвенным ковриком для намаза, и верхней одеждой и крышей над головой, если ночь застала в дороге и скатертью при скудных трапезах. Короче, – вещь на все случаи жизни.
Бойцы вытащили из-под одного такого правоверного, который теперь без лишних земных посредников встречается с Богом, и молельный коврик ему уже не нужен, тем более не нужны ни крыша, ни скатерть для трапезы, добротное одеяло, да не из бумазейной байки, а из настоящей верблюжьей шерсти.
Удачно словивший советскую пулю, наверное, был командиром и вместо знаков отличия, в полевых условиях он носил полагающееся ему по чину одеяло из лучшей ткани. Ведь носили же советские генералы лампасы на брюках и барашковую папаху на высокой голове…
Вот и пригодилось советскому лейтенанту это самое одеяло для прикрытия страшной, кровавой наготы своей и последних безобразий смерти…
Его, спеленали неумелые мужские руки, но спеленали так, как пеленают русские женщины своих младенцев.
Завёрнутого в шерстяной кокон лейтенанта уложили в мотоциклётную люльку.
В люльке до половины её объёма находилась россыпь золотых пахучих шаров. Апельсинов было столько, что ноги командира в люльке не помещались, и Гога, черпая пригоршнями сочные оранжевые кругляши, насыпал возле мотоцикла целую горку. Почти, как у художника Верещагина. Но эта горка был больше похожа на апофеоз мира, апофеоз щедрости мира.
То ли заинтересовавшись происходящим, то ли с намерением что-то сказать, семья во главе со стариком в белой бабьей рубахе, осторожно переступая, словно под ногами рассыпано битое стекло, двинулась к тому месту, где возились непонятные солдаты, где недавно сытно пообедала война, на заедки, проглотив и оскверненного неподобающей смертью правоверного, теперь висевшего подмоченной тряпкой на высоком орудийном стволе.
Боясь подойти ближе, процессия остановилась метров за десять от арчи.
Старик, оглаживая бороду ладонями, как перед намазом, стал что-то горячо говорить, жестикулировать руками, прикладывать их к сердцу, поворачивался к своим домочадцам, снова хватался за сердце, складывал ладони крест-накрест, и, разъединив их, вздымал к небу, как алчущий Бога библейский пророк.
Гога, наклонившись, поднял с земли один из кругляшей и, подкинув в ладони, кинул деду. Тот ловко, по-молодому, поймал оранжевый шарик и передал рядом стоящему мальчику. Мальчик, тут же обливаясь соком, впился зубами в податливую мякоть.
Дети не понимают происходящего, но тонко, на уровне инстинкта, чувствуют напряжение, разлитое в окружающем пространстве. Наверное, поэтому мальчик и стал показывать всем своим видом, как ему нравится апельсин, подаренный чужим страшным дядей.
Гога кинул ещё один апельсин, старик снова поймал его и передал то ли девочке, то ли маленькой женщине закутанной в чёрную мелкоячеистую сеть из-под которой виднелись только одни узкие кисти рук.
Гога кидал и кидал апельсины. Старик ловил их, благодарно улыбался узким щербатым ртом и передавал фрукты кому-нибудь из стоящих рядом.
Но вот, резко повернувшись, Гога сказал что-то быстро своему другу, выхватил из нагрудной опояски чёрный ребристый кругляш чуть поболее тех оранжевых и выдернул чеку: – Лови! Оп-па! – и кинул согнутому в уважительном поклоне аксакалу, который, тут же выпрямившись, изготовился его поймать.
Мотоцикл взревел, буксанул задним колесом выбрасывая из-под себя мелкие камешки, и рванул вниз по склону туда, прочь из проклятого кишлака, где полегли их товарищи, не дожив даже до первой настоящей любви.
За спиной сквозь свист ветра в ушах и тарахтенья мотора сухо громыхнуло, – так иногда в солнечный день громыхнёт на безоблачном небе и не одной дождевой капли, только оглушительная тишина.
Дороги в Афганистане вымощены самой природой, а природа, как известно, слепа. Под колёса мотоцикла попадали, кажется, самые крупные камни, и люльку подбрасывало так, что находившийся в ней лейтенант всё норовил выскочить на дорогу, и Гоге приходилось одной рукой попридерживать страшный в своей сути мешковатый шерстяной куль.
Каждая дорога в мире где-нибудь да кончается.
Ехали быстро, но долго.
Гнали мотоцикл на всех газах, боясь нарваться на автоматный ливень из засады, или на одиночный выстрел охотника с гранатомётом. Но дорога по обе стороны была просторной и открытой со всех сторон, так что спрятаться в секрете было невозможно никакому бородачу.
13
Ехали быстро и влетели в самый, что ни на есть тупик.
Военный аэродром и расположенный здесь же, обочь лётного поля палаточный городок советской части охранялся в два эшелона – по внешнему периметру охрана велась Народной Армией Афганистана, внутренняя же охрана осуществлялась собственными силами десантного полка, в котором и служили два товарища с библейскими прозвищами – Гога и Магога.
Над блокпостом, сооружённом из массивных бетонных брусьев, подбитым крылом, пытаясь отмахнуть от себя сущее пространство, трепыхался чёрно-красно-зелёный государственный флаг Афганистана.
Въезд на охраняемую территорию преграждал сваренный из труб полосатый шлагбаум, за которым перепоясывала дорогу широкая транспортёрная лента, унизанная стальными шипами-заточками, что говорило о строгом пропускном режиме.
Магога чуть не сбил рулевой колонкой кинувшемуся ему навстречу солдата дружеской армии с лицом тёмным, как голенище кирзового сапога, и раскрытыми то ли для братских объятий, то ли, загораживая дорогу, руками.
Двое других, видя на мотоцикле советских бойцов, продолжали стоять за шлагбаумом, спокойно лузгая, может, семечки, а, может, калёные на огне земляные орешки арахиса.
– Парол! – крикнул тот, с тёмным лицом и распахнутыми руками труднопроизносимое слово.
– Сим-Сим, твою мать! – злобно оскалясь, соскочил с заднего сидения Гога и сдёрнул шерстяное, в крупную жёлтую клетку одеяло с лица своего командира, лейтенанта советских десантных войск, Витька, мальчишку с тамбовской рабочей окраины.
Охранники, бросив грызть орешки, с любопытством окружили коляску, и заталдыкав о чём-то между собой, засмеялись.
Но смех быстро оборвался.
Огненная метелка, выскочившая из ствола у Магоги, разом подмела этих смехачей в одну кучу.