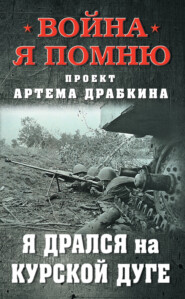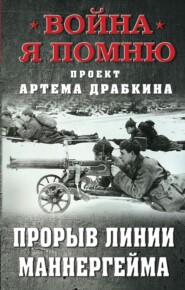По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пехотинцы. Новые интервью
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда мы ехали на машинах на передовую, нам люди махали и мы им тоже. Нас шесть человек в машине было. Да, я раньше думал, что солдаты с одеялом ходят, а это, оказывается, скатка. Так я распустил эту скатку и вижу: там полно бинтов, вата. Я полные карманы этого всего наложил, патронов тоже. Мне представлялось, если ранение – значит, обязательно нужно побольше бинтов. Не понимал, что маленькая пулька…
Ехали к передовой мы по пшеничному полю. Старшина – четыре, кажется, угольничка носил, старая форма – говорит: «Ребята, не высовывайтесь из машины». Ну, «не высовывайтесь», а оно ведь интересно всё. Я выглянул: в кукурузе стоят артиллеристы-моряки и стреляют из пушек. Потом машина развернулась, мы подъехали к передовой, к посадке, и старшина дал команду: «По щелям!» Что такое «щель»: это узкий окоп такой, от бомбежки чтобы прятаться. По щелям так по щелям. Выскочили мы из машины, вижу, в посадке листьев нет на деревьях – от осколков, от пуль всё сбито. Нас трое прыгнуло в окопчик мелкий такой, для стрельбы с колена. Какой-то раненый к нам приполз, говорит: «Ребята, перевяжите меня. Я искал свою часть, не могу найти». Я думаю: «Господи, как это перевязывать?» В бедро он раненный был. Начали его перевязывать и боимся. Он говорит: «Знаешь что, парень? Вон, поползи, там в землянке медсестра есть. Она придет, окажет мне помощь». А рядом два солдата стоят под деревом. Я говорю из окопа: «А че ж вы не прячетесь?» – «А не всё равно, когда тебя ранит или убьёт?» – они связисты были, ну всё время ж по линии с катушками. Пополз я туда, там какой-то командир с женщиной любовь крутит. Говорит: «Что ты хочешь?» Я говорю: «Так и так». – «Иди отсюда». И я ушел. А вот этот парень, третий который был, он долго сидел и говорит: «Я не могу это выдержать», – поднялся и ушел. Мы ему: «Куда ты пойдешь?» Он ушел, а мы остались…
Да, самое главное: когда мы подъезжали, еще до передовой, нам дали кушать. По такому куску сала дали, дали хлеба. У меня дома от куриного бульона голова болела, а тут кусок сала. И воняет кругом – трупный запах страшный. Дали, значит, покушать и дали оружие – винтовки. Я небольшого роста, через меня это всё передавали наперед. Винтовки побитые, в крови, приклады посечены осколками. Я себе выбрал чистую, получше, и вот с этой винтовкой в первую же ночь меня и этого парня второго поставили в боевое охранение. Пришел комиссар проверять посты, нас снял оттуда и кого-то другого поставил. Куда там: мы сидели, пришли б румыны и забрали бы нас. И так начались боевые действия.
На второй день, что ли, мы пошли в атаку. Я бежал, и румын в каске поднял руки. Я ударил его прикладом по голове и побежал дальше. Что с ним было после этого, не знаю.
Через несколько дней какой-то командир ехал с документами в город, и нужно было, чтобы кто-то его охранял. И нас с этим парнем выделили. Наши должны были взорвать дамбу (её таки взорвали потом) и залить Пересыпь лиманской водой, если румыны ворвутся. А всех жителей предупредили, что они должны переехать в город. Поэтому мама моя жила на Островидова[3 - Ныне Новосельского.]. Приехали мы, значит, в город, а командир этот говорит: «Идите к коменданту города, он вас направит в другую часть». Я решил сходить домой. А мама жила у соседей – у тети Доры. Я пришел, а они увидели: винтовка выше меня, с двумя гранатами, – как начали бабы плакать. И, главное, возьми ж, дурак, отстегни штык – я со штыком был, ха-ха-ха.
И оттуда я попал в 421-ю дивизию. Там я уже участвовал в боях под Александровкой. Но там как: ведь необязательно нужно каждый день, чтоб ты стрелял и колол. Два-три дня можно вообще ничего не делать: артиллерия стреляет, а пехота сидит в окопе. А потом под Александровкой высадили десант, и мы соединились с ним.
Там повоевал я дней семь, наверное, и нас опять отправили в город. Мы стояли в родильном доме. Если бы румыны ворвались в город, мы должны были занять оборону в районе сахарного завода, где общежитие на повороте (там все окна были заложены мешками), чтоб они не прорвались дальше, за мост. Оттуда нас посылали в филармонию. В филармонии было бомбоубежище, из которого вывозили снаряды и мины. Офицеры там играли в бильярд, а мы, мальчишки, стояли на посту. И вот я стоял на посту ночью: снаряды рвались, одну женщину убило – руку или ногу оторвало, уже не помню, матроса одного ранило. А я сейчас другой раз прохожу мимо филармонии и вспоминаю всё это… А потом мама пришла туда, принесла блины мне картофельные. Я так обрадовался, а сам говорю: «Уходи, не дай бог, что-то случится».
Когда началась война, был приказ все радиоприемники сдать, чтобы не слушали пропаганду. А потом, перед сдачей, отдавали: они все находились в каком-то здании. Я думаю: «Вот бы мама пришла, забрала этот приемник». Ну мальчишка был. Это уже в Севастополе потом я посерьезнее стал.
До рукопашной не доходило в Одессе?
К счастью, нет. Во время войны в рукопашной я не участвовал.
Да, что еще интересно: я и Жорка Гильс, товарищ один, – мы, когда вышли с боев, решили побежать домой. Он жил под Живаховой горой, где в царское время кирпичные заводы были. А я сразу побежал на Ярмарочную к голубям. Там немец один держал голубей – Адик. Вышел Адольф с таким презрением, прическа как у Гитлера. Маму я не застал и брату своему глухонемому написал записку для неё, мол, я стою в родильном доме, приходи туда. Она пришла, начала спрашивать: «Тут Ликвер есть?» Начали искать меня, не нашли – значит, в самоволке. Я пришел, меня и этого Жорку посадили в туалет – двое суток ареста дали. Да, а ребятам во дворе я сказал, что стою в родильном доме. И на другой день пришли два парня, принесли двух голубей почтовых. Одного выпустили, а второй со мной остался – в вещмешке был. Я его поил изо рта.
К вечеру второго дня нас посадили на машины и снова куда-то повезли. Оказывается, мы выехали со Второго Заливного, въехали на сахарный завод, а за сахарным заводом грузился последний караван судов на Севастополь. Немцы бомбили, город весь в дыму был – страшная вещь. А до этого я ехал через Привоз: весь Привоз горел – они зажигалки бросали. Но вообще город был не сильно разбитый. На пароходы сетками грузили в трюмы снаряды и мины – самое ценное. А продовольствие и химимущество бросали в море, чтоб немцам не осталось. Бросали, один ящик упал – там бисквиты «Мария» были, очень вкусные. Я их в вещмешок наложил (и там голубь у меня), тут два мессершмитта пролетели, обстреляли нас. Один краснофлотец подбежал к спаренному пулемету, начал стрелять, а, оказывается, это не его. Другой подбежал, начал драться с ним, говорит: «Уходи, я стрелять буду». Мы забежали в трюм, самолеты прошли над нами, с пулеметов прострочили и над самой водой стали уходить в сторону Лузановки. Один самолет вроде упал в море – так издали нам показалось.
А потом я, Жорка и еще двое ребят – Гоноровский и Донской – начали шептаться между собой, оставаться или нет. Я ж не знал, что родители эвакуировались. Мы решили остаться в Одессе – ну мальчишки были, не понимали, что это опасно. Один краснофлотец подошел, здоровый такой мужчина с усами, и закрыл нас в кубрике. Привел младшего лейтенанта, говорит: «Вот, они о чем-то договариваются. Может, они корабль хотят взорвать?» И лейтенант заставил нас идти в трюм, чтоб мы разгружали мины и снаряды. Мы туда спустились, а потом – я не помню, как и что, – мы оказались в море. Так эти два парня всё-таки исчезли, а я и Жорка остались.
На другой день я подошел к краснофлотцам, которые брились, и говорю: «Сбрейте мне усы». Они начали смеяться над моим «мхом», побрили меня. А я вспомнил, что у меня в вещмешке голубь. Написал записку и этого голубя бросил почтового. Потом уже, после войны, Миша Бондаренко (он умер в позапрошлом году), он помнил, как этот голубь прилетел с запиской с моря.
И уже в Севастополе я встретил соседа своего, родственника, он говорит: «Ты знаешь, что твои родители там, на таком-то корабле?» Я так обрадовался, хотел бежать, а меня не пускают. У нас из 36 человек, которые в роте, осталось 16 или 18 – поразбегались. Фронт был под Мариуполем, никто уже не верил в победу. Так командир роты не хотел меня отпускать. Лазарь его звали. Но потом всё-таки разрешил. Мы пошли, а корабля уже нет. И вот в это время в Севастополе немецкая авиация потопила наш крейсер «Червона Украина». А родители эвакуировались на теплоходе «Украина». И я думал, что родители мои погибли.
В Севастополе нас, молодежь, с 421-й дивизии направили на Мекензиевы горы. Туда с Евпатории на переформирование отступила 7-я морская бригада. Командовал ей полковник Жидилов, моряки там в основном были. И уже в 7-й морской бригаде я провоевал и был дважды ранен. Первый раз на Итальянском кладбище, в январе, а второй раз уже тяжело был ранен в начале мая, тоже на Итальянском.
Можно подробнее?
В ночь на новый, 1942 год наши войска высадили десант в районе Феодосии и Керчи. И для того, чтоб немцев отвлечь, так нам объяснили, мы начали местное наступление на Итальянском кладбище. Я полз, а немец гранату бросил. Я увидел, как сзади она упала, но уже не мог ничего сделать. Взорвалась, и осколок попал мне в правую ступню. Хорошо, что не убила. Я лежал потом на Максимовой даче. Там раненых полный госпиталь: на полу, где хочешь, лежат. Это в кино показывают красиво, что там аккуратно так всё. И один моряк раненый, постарше меня, говорит мне: «Знаешь что? Вон какой-то моряк, он на тебя так посмотрел и дал тебе место на кровати, а сам пошел на пол лег». Я кричу: «Яшка! Яшка!» А он: «Я не Яшка, моя фамилия такая-то». Я говорю: «Да как же? Я же тебя знаю хорошо». А он прикинулся, что он татарин – не еврей. Чтобы его, если в плен попадет, не это самое… И когда он уже выписывался, расплакался и говорит: «Да, так и так, я такой-то». Штукман его фамилия была.
А второй раз тоже в атаку шли. На мне, значит, были ватные брюки, такие брюки и морские брюки, и ложка была деревянная – мама дала. И прямо в эту ложку разрывная пуля угодила. Эта рана у меня очень долго заживала.
Описать процесс боя можете?
Это мне тяжело рассказывать. Ну наступаешь, кричишь «ура!», в тебя стреляют, ты прячешься – вот это страшно. Ну что тут описывать? Даже Симонов пишет: «Что ж рассказывать это?» Ну вот я бегу, стреляю, в меня стреляют, я хочу вперед, пули летят, тот ранен, того убили, то назад отступаем, то вперед – это бесконечная такая вещь. А вот когда немцы наступали, мы, значит, отстреливались тоже и гранаты бросали. Другой раз вспоминаю, как немец прямо на меня несколько раз бежал, а я стрелял в упор. Глаза такие…
Там, под Севастополем, оборона была уже подготовлена. Были траншеи, землянки, окопы соломой обложены. Но это всё мы потом оставили, когда отступали, и уже на новых местах нужно было окапываться.
В Севастополе я первый раз увидел пленных немцев: молоденькие мальчишки, голодные сидят – ну такие же, как я, ты представляешь?
Кормили как?
В Одессе кормили исключительно здорово – всё ж оставалось. Нам давали котелок, там полкотелка каши, например, и столько же жира еще сливали. Вино давали – привозили повозку с деревянной такой бочкой. А под Севастополем очень плохо кормили. Голодные были постоянно. Рано утром на рассвете привозили кушать, например, и вечером – иначе к передовой не подойдешь. Давали суп-пюре гороховый – одна водичка прямо, перловку давали. Около Севастополя есть местечко такое, Инкерман. Там рядом Сухарная балка и склады артиллерийские Черноморского флота. Их взорвали, когда наши отходили, там очень много боеприпасов было. И там был завод шампанских вин. Так нам давали это шампанское. Сначала бутылку на четверых, а потом замполит пришел: «Как так? Это на двух человек надо! Что вы дурака валяете?» Ну начальство, им выгодно было – старшина и так дальше. А пить: попробуй шампанское выпить – с чего? Чашек нет. Так мы брали с немецких котелков крышки снимали. Оно всё выбегает – еще не знали, как правильно пользоваться. С пистолетов трофейных потом расстреливали эти бутылки. Пацаны, ну: боя нет – в бутылки стреляли, кто лучше. Возьмешь патрон наш, камнем ударишь – пуля чуть-чуть влезала внутрь, и можно было из парабеллума или из вальтера стрелять одиночным выстрелом. Потом нужно было оттянуть – гильзу не выбрасывало.
Экипировка у вас какая была?
Винтовка та же самая, лопатка, противогаз обязательно. Но противогаз я выбрасывал.
Сначала под Севастополем наша бригада была в резерве Главного командования Приморской армии. Так нас перебрасывали то на Мекензиевы горы, то на Итальянское кладбище, то на Английское кладбище, то на хутор Каракуба – всё время на новом участке мы находились.
Как-то меня выделили со старшиной пойти за пищей. Взяли термос в рюкзак и пошли. Я подошел к одному краснофлотцу, говорю: «Морячок, с какой ты бригады?» Он посмотрел: «Мишка!» Я: «Мишка!», – друг на друга. А это Мишка Рабинович, его сестра дружила с моей тетей. Он погиб потом. И мы там задержались до того, что старшине прострелили бачок – суп весь вылился.
Потом прислали нам пополнение из Азербайджана, Грузии и так далее – сделали национальные дивизии. Эти азербайджанцы, что они делали! Они свои портянки снимали и в вещмешок складывали. И всё. Когда позже я лежал в Цхинвали в госпитале, полно их было – все калеки, с отмороженными пальцами. В палату нельзя было войти – воняло так мертвечиной. И потом стали все инвалидами войны.
А посылали, например, этого азербайджанца со старшиной перловую кашу нести, так он по дороге рукой из ведра половину каши, наверное, съедал. Краснофлотцы однажды одного так отлупили, как не знаю кого. Сало давали нам как сухой паек или консервы американские. У меня ни ключа, ничего нет, только штыком можно было пробить эту коробку. Так вот азербайджанцы – мусульмане, они сало не кушали. Они его складывали в вещмешок, чтоб где-то поменять на что-то. А наши краснофлотцы брали это сало и по губам им мазали. Те кричали так.
У нас был командир взвода, агроном азербайджанец: парень такой, техникум окончил – ветеринарный, что ли. Так он рассказывал: «Я ему говорю, а он мне: «Я твоя не понимаю», – азербайджанец азербайджанцу.
А до этого командиром взвода у нас был молодой лейтенант с подводной лодки – списали его. А я же учился в украинской школе, и вот мы как-то в землянке сидели с ним, и я ему что-то по физике говорю: «Формула потужности». А он: «Мощности». Я ему: «Да какой мощности? Потужности». И мы спорим такие (смеется).
На хуторе Каракуба – это возле деревень Нижний и Верхний Чоргунь – я нашел иллюстрации к книге «Пещера Лейхтвейса», которую очень любил в детстве. Я так обрадовался. И эти иллюстрации, этот выпуск – 32 листика – со мной прошли всю войну, в бумажнике были. Я их показывал морякам, читал им, анекдоты рассказывал – пацан был. Так немцы шли в атаку, а меня из землянки не хотели выпускать, чтоб меня не ранило и не убило.
Я был в первом штурме Севастополя, потом во втором, а в третьем не был – там все погибли, наверное…
Нас, тяжелораненых, эвакуировали на крейсере. Самолеты налетели, но они не бомбили – наверное, без бомб были, не знаю. Или просто не обратили внимания. Сначала я лежал в госпитале в Батуми, на Зелёном мысе. Потом в Цхинвали (раньше Сталинири назывался город) – это около Гори, где Сталин родился. А потом мне дали сорок пять суток отпуска, и я уже списался с родителями, которые жили у моего дяди в Свердловске. Наш эшелон успел проскочить перед тем, как немцы ворвались в Сталинград, когда большая бомбежка была. В Свердловске я снова лежал в госпитале – нога у меня не заживала. И оттуда я попал в Свердловское пехотное училище.
Там у нас был командир роты старший лейтенант Чайковский. Он вел перекличку, дошел до моей фамилии и мне говорит: «Брат есть у тебя на фронте?» Я говорю: «Нет». А после разговорились – оказывается, мой двоюродный брат у него на руках погиб. Они вместе кончали во Львове училище, звание им присвоили, и потом они отступали в 1941 году.
Там немножко проучился, а потом три пехотных училища: наше, Свердловское, потом Камышловское и Таллинское, в начале 1943 года отправили на фронт под Мценск – это около Орла. Я попал в 25-й танковый корпус, был в батальоне автоматчиков. И оттуда я пошел уже на Киев. Там мы в обороне были долгое время. Оборона – это не каждый день стрельба и бои: другой раз можешь два-три дня вообще не стрелять ни разу. Многие представляют так: если я на передовой линии, значит, каждый день стреляю. Нет, это не так совсем. Каждый день стреляют артиллерия и минометы – это постоянно. А я стреляю только тогда, когда иду в атаку или на меня идут в атаку, понимаешь? А многие думают, что на фронте без конца бегают и стреляют, как в детских играх. Это ж не война, в кино только так показывают.
После этого мы наступали на Львов, потом на Ровно, Дубно, Луцк – это всё пройдено было. Одно время я даже заряжающим в танке был. Ну недолго я был там – несколько дней, и танк наш сгорел. Полковник Плешаков, командир танка, лейтенантом был тогда. Около Брод я был ранен в руку – это третий раз. Оттуда мы южнее Варшавы прошли. И там уже в 1945 году возле города Пётркув-Трыбунальский я был последний раз ранен сразу в шесть мест: в спину, в обе руки и в плечи. Я долго провалялся в госпитале и вернулся уже перед наступлением на Берлин.
Ну что про Берлин? Я был на 1-м Украинском, и наш фронт должен был помогать 1-му Белорусскому: обойти Берлин с юга. Мы прорвали фронт, и наш танковый корпус ворвался на южную окраину Берлина. Несколько дней мы вели очень тяжелые бои: в двух наших танковых армиях почти все танки перебили, но их тут же пополняли новыми. У немцев фаустпатроны были, они сжигали танки: из подвала бухнул, и всё – танк горит. Уличные бои – страшная вещь: бежишь, немцы наверху, а мы внизу из автоматов в потолок стреляем, штукатурка сыплется, гранаты друг в друга бросаем.
Помню, наши танки стреляли, а немцы бежали через какой-то мост, между танками прямо прорывались. Я за немцем одним погнался, хотел его взять в плен, а он повернулся и что-то кинул в меня. Я упал, думал, что граната. Полежал немного, там кусты были, поднялся, а это пистолет. У него патроны кончились, и он кинул им в меня. Красивая такая ручка – полированная, деревянная, правда. Я патроны достал потом, смазал его, и всё время в сарае он у меня лежал, когда я уже на Ярмарочную вернулся. А потом я разобрал его на мелкие кусочки и выкинул – папа всё время говорил: «Выкинь его к черту»…
После этого Сталин дал команду, чтобы 1-й Украинский фронт снялся и пошел направо. Это было уже 30 апреля, за несколько дней до того, как Берлин пал. 30-го мы вышли с боев, а второго они уже капитулировали. И потом мы пошли на Прагу.
На Рейхстаге расписались?
Нет, я до Рейхстага не дошел.
Когда кончилась война, мы были в Чехословакии. Это было уже 11 или 12 мая. Поговаривали, что вроде конец войны, но мы не знали еще. А потом один танкист по радио услышал, говорит: «Война кончилась!» И полно власовцев пленили: молодые ребята, красивые, здоровые. С папиросами, с таким гонором ходили, с татуировками – противно смотреть было на них. Был там и ансамбль РОА (Русской освободительной армии). Они рассказывали, как в плен попали, что их не кормили. Многие думали, что удастся к нам попасть, а многие ненавидели советскую власть. А наш командир батальона капитан Якушев взял генерала Власова в плен. Мне власовец один рассказывал потом, как это вышло. Значит, власовцы частично были в нашей зоне и частично в американской. Наш Якушев появился в американской зоне, и какой-то капитан ихний – Кучинский, кажется, – подошел к нему и говорит: «Товарищ капитан, вы можете взять в плен командира дивизии РОА». (Буняченко, что ли.) Якушев говорит: «Давай, пойдем, покажешь, какая машина». Они пошли, подошли к какому-то шоферу (это парень мне рассказывал, который участвовал в пленении), Кучинский говорит: «Где командир дивизии?» Тот: «А зачем тебе?» – «Да мы его хотим в плен русским сдать, и нас помилуют, может быть». Они стали искать и нашли машину, где сидел Власов. Генерал оттуда вырвался, бежать хотел. Ну это целая история… Короче говоря, вот этого капитана-власовца и двух солдат, которые помогли взять Власова, наградили: капитану дали орден Красной Звезды, кажется, а солдатам – медали «За отвагу». А остальных попросили, чтоб они помогли перевезти автомашины, которых очень много осталось. Так мы когда переезжали в сторону Праги, они перегнали эти все машины, и их всех потом «под лавочку» забрали. А там один был из Ростова власовец. Он работал в машине связи и был часовым мастером. А у нас у каждого часов трофейных полно. И он говорит: «Знаете что, ребята? Я только у офицеров буду сначала ремонтировать, а потом у вас». Он набрал часов и чухнул в ту зону, к американцам. Да, а Якушева наградили таким орденом, который обычно не дают командиру простому – орден Суворова 3-й степени. Так говорили нам. Насколько это правда, я не могу сказать, потому что я уехал учиться тогда.
М.Л. Ликвер в 1944 г.
У меня были такие случаи: я и топился, и горел. Ко мне немец один подбежал с автоматом – это было в 1944 году – и, по-моему, по-русски заругался. Ударил меня прикладом – у него патроны, наверное, кончились. И я из автомата его прошел. Это как получилось: танк наш горел рядом, а с другого танка вышел немец. А когда горит ночью, особенно летом, смотришь в сторону – темно в глазах. А танкист говорит: «Ребята, что ж вы, не видите, что немцы на вас бегут?» И вот этот немец ко мне подбежал…
Те два немца тоже притворились мертвыми, я пробежал, они прыгают на ноги: «Хенде хох!» – и ко мне. А сзади бежал еще один товарищ, Колкин, это Буг форсировали мы. Они увидели, что рядом танк (36 на танке, я хорошо запомнил), с перепугу винтовки бросили после всего, я даже не сообразил сначала, в чем дело. (Этот Колкин потом погиб.) А немцы эти подняли руки уже вверх, и я, значит, такой злой был: подбежал замполит – с Дальнего Востока прибыл, майор Бондарев, – я хотел стрелять, а он не дает. Я выстрелил в одного немца – убил. Второй вырывается, так я его ударил прикладом, он упал, попу подставил, и я полдиска, наверное, в задницу выпустил ему. Майору в глаз гильзы вылетали, он потом всё время это до конца войны вспоминал.
Скажите, а были случаи антисемитизма по отношению к вам во время войны?
Я тебе скажу, такого не было. Однажды в Свердловске, когда я был в пехотном училище, эстонец один шел и ногу не взял. Я говорю: «Возьми ноги», – по ногам ему. А он мне: «Ты, жидовская морда!» Так я начал драться с ним. Старшина это увидел, говорит: «Иди доложи командиру роты (он впереди вел нас со стрельбища), что ты дрался». Я подбежал, а там старший лейтенант-одессит, Дамбровский, что ли, фамилия его. Я ему рассказываю, он говорит: «Ты ему дал в зубы?» Я говорю: «Да». – «Ну и молодец, иди в строй».