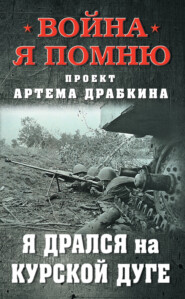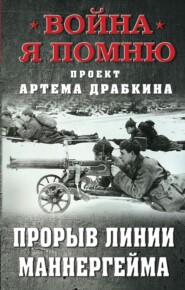По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я дрался на штурмовике. Обе книги одним томом
Жанр
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Главное – тщательно подготовиться на земле. Изучить цели, проложить маршрут, подготовить экипажи. Этим занимается командир полка и командир эскадрильи, которому поставлена задача. Линию фронта определить достаточно просто, и я никогда не видел, чтобы наши войска выкладывали полотнища. Иногда они использовали ракетницы для целеуказания. При подлете к линии фронта связываешься с наземными станциями (где воздушные армии – там всегда имеются представители): «Я – Лиса, иду на работу, цель 85. Подтвердите». Они подтверждают или переориентируют меня на новую цель. От них же я получаю сообщения о воздушной обстановке. У меня не было случая, чтобы я ударил по своим или не выполнил задачу.
А. Д. Радиостанции были?
– Все самолеты были оснащены и приемниками, и передатчиками, претензий к их работе у меня лично нет. Их тщательно проверяла служба связи полка.
А. Д. Прикрытие всегда было?
– Да. Обязательно. Но не всегда прикрывали разведчиков, особенно когда низкая облачность. Были случаи, я ходил без прикрытия. Но в основном всегда прикрытие выделялось.
А. Д. Случаи трусости были?
– Открытой трусости не было. Был у меня летчик Михаил Сысин. Мне летчики сказали, что от цели он отходит раньше, а когда я собираю группу, подстраивается и приходит с нами. Мы собираемся, а он у линии фронта ждет нас. Сам я этого не видел – я же ведущий. Я с ним побеседовал. Он говорит: «Очень страшно. Долго не выдерживаю работы над целью, выхожу». Ну, я ему сказал, чтобы он прекратил так делать, и после этого он летал нормально. Я его предупредил, мог под трибунал отдать, было у меня такое право. За трусость на фронте очень строго расправлялись. Впоследствии его сбили, он погиб. Он не был настоящим летчиком. Его подбили, а он не смог посадить самолет с ходу, стал выходить на второй круг, двигатель совсем «сдох», сорвался штопор и погиб над своей территорией. Потом я прилетел на П-2, в люльках привезли два трупа – Сысина и его стрелка.
А. Д. Можно было себе назначить больше полетов? Или наоборот. Сказать, что сегодня я плохо себя чувствую и не полечу?
– Отказаться от вылета? Только по болезни, но такое случалось очень редко.
А. Д. Особисты у вас были в полку? Как у вас с ними складывались отношения?
– Нормально. Он пытался меня завербовать в информаторы, чтобы я ему подробно рассказывал о своей эскадрилье. Ведь эскадрилья – это не только летчики, но и техники, оружейники, мотористы и так далее. Я отказался, сказав, что работаю вместе с заместителем по политчасти.
А. Д. У вас в полку были летчики, которые летали с 1941 года?
– Наш полк начал воевать в 1941 году на Калининском фронте на Р-5 и почти полностью погиб. Остались один или два человека, да и те уехали: кто в академию, кто еще куда-то. Когда я пришел в полк, летчиков, которые воевали бы с 1941 года, не было. После переформировки 621-го ШАП воевал под Сталинградом. Эти летчики тоже почти все погибли, причем некоторые – когда уже я летал. К 1945 году полк подошел составом, участвовавшим в операции «Багратион».
А. Д. В чем летали?
– Одеты были не особо хорошо. Зимой в меховых комбинезонах или теплых штанах и меховых куртках, летом – в куртках, сапогах и бриджах. Шлемофоны или летние, или меховые зимние. Некоторые даже в шинелях летали.
А. Д. Стрелки-женщины были?
– Летчиц или стрелков-женщин в нашем полку не было. В эскадрилье у меня было восемь девушек, а в полку их в общей сложности человек 30 было. Многие из них просились стрелками летать, но им отказывали. Девушки не летали.
9 мая 1945 года полк сделал последний боевой вылет, и тут объявили, что война окончена. Мы стреляли, выпивали, обнимались. Так продолжалось дня два – стояла анархия, никто нами не управлял. Ну а потом началась служба мирного времени…
Дубровский Леонид Сергеевич
Я родился в городе Тамбове в 1920 году. Окончив 8 классов средней школы, я не захотел учиться дальше в десятилетке, а решил получить какую-нибудь специальность. Поступил в Тамбовский железнодорожный техникум. Там, будучи учащимся 3-го курса, я без отрыва от учебы поступил в Тамбовский аэроклуб. Форму в аэроклубе не давали, только комбинезон, шлем и перчатки, а так ходили в своем. Нас привозили на аэродром под Тамбовом, кормили отличным «ворошиловским завтраком» (так он почему-то назывался), и начинались полеты.
Так совпало, что в 1940 году я одновременно окончил 4-й курс техникума и аэроклуб. В аэроклубе мы сдавали экзамены, которые принимала летная комиссия, состоявшая из инструкторов аэроклуба и летчиков-инструкторов Балашовского авиационно-летного училища. Технику пилотирования я сдал на «отлично», но материальную часть – средне: были у меня и тройки, и четверки. Тем не менее я поступил в это училище и 10 ноября 1940 года уже был в Балашове. Первые три месяца в училище мы были слушателями и проходили курс молодого красноармейца. Мы ходили на кухню, в караул, на станцию разгружать уголь, дрова, занимались строевой подготовкой. Кто заболевал или был непризывного возраста, тот мог подать рапорт, и его отчисляли. Я прошел все тяготы армейской службы и через три месяца стал настоящим курсантом.
В Балашове кроме теоретической подготовки и изучения материальной части начались и полеты. В аэроклубе мы летали на У-2, а здесь сначала учились на Р-5, УТ-2, а потом начались полеты на СБ. Мне он нравился: хороший, несложный самолет.
Что касается морально-политической подготовки, то после нападения Германии на Польшу в 1939 году нам было уже ясно, что скоро начнется война. От нас не скрывали, что мы готовимся к ней, и разговоры велись об этом довольно часто. Помню я и начало войны: в начале воскресного дня 22 июня 1941 года в училище проходили физкультурные соревнования. Сначала у нас были прыжки в длину, в высоту, а потом мы уже должны были бежать кросс. И вдруг кто-то из УЛО (так назывался учебно-летный отдел) кричит: «Заканчивайте соревнования!» Все побежали. Выступал Молотов с сообщением, что началась война, что немцы вероломно напали на Советский Союз. На этом же стадионе был митинг. В основном тон задавали инструкторы. Были патриотические выступления, но без шапкозакидательства. И прямо тут же инструкторы добровольно просились на фронт, писали рапорты. Действительно, они были отправлены. Мой инструктор лейтенант Малиновский тоже был направлен добровольцем на фронт. Потом от тех инструкторов, кто добровольно ушел на фронт вместе с ним, я узнал, что он погиб в 1941 году.
В училище, до начала войны, кормили нас отлично. Была курсантская столовая со столиками на четыре человека, нас обслуживали официантки. Как война началась, сразу порядки изменились. Официанток в столовой не стало, столики – на 12 человек. Дежурные курсанты сами ходили на кухню, готовили обеды, сами разносили бачки. Положение было уже солдатское. Наше училище было огорожено забором, а за забором стояли пехотные части, которые готовились к отправке на фронт. Недисциплинированных и плохо летавших начальники пугали отправкой «за забор», то есть в пехоту. И не только пугали, но и отправляли некоторых.
Летали мы мало: экономили горючее для фронта. Больше времени мы находились в караулах и на кухне. Мы закончили обучение на СБ. Некоторых курсантов на Р-5 направили на фронт. А нам пригнали учебные самолеты штурмовики Ил-2 – старенькие, непригодные для боевого применения, со снятым вооружением. Когда немцы подошли к Сталинграду, мы еще продолжали летать, и было несколько случаев, когда немецкие летчики сбивали курсантов, которые выполняли учебные полеты над аэродромом. Тогда было принято решение перебазировать нас в Сибирь, в Алтайский край, на станцию Бурла. Приехали, построили удобные землянки человек на 20–25 с печкой. Обучение на Ил-2 продолжалось. Позже нас перевели в город Славгород, где мы и закончили обучение. Нас, восемь летчиков, направили в город Щелково в Подмосковье для дальнейшего прохождения боевого применения на этом самолете. Добирались мы своим ходом: попутными поездами, товарными, пассажирскими. Никто нам даже проездные не давал!
В городе Щелкове стояла 1-я запасная учебно-тренировочная эскадрилья запасной бригады. Там я быстро закончил боевое применение, и меня оставили инструктором. Учил я таких же летчиков, как и сам, но по положению бывших на правах курсанта: он в первой кабине, я – во второй. В течение двух-трех месяцев через эскадрилью прошло несколько выпусков, и поступил приказ лететь на фронт. Это было весной 1943 года.
Меня как инструктора (хотя еще молодого) назначили старшим группы из восьми летчиков, которые прибыли из Балашовского училища, и направили на Западный фронт в 1-ю воздушную армию. Аэродром назывался Песоченский, он был расположен между Козельском и Калугой, прямо у реки Десны. Когда мы прилетели туда, то командир 224-й штурмовой авиационной дивизии сказал: «Четыре летчика остаются при штабе дивизии, а четверо – отправляются в 566-й полк. Выбирайте, кто с кем хотел бы воевать». Когда мы, четыре человека, перебазировались на полковой аэродром, командир полка говорит мне: «Раз ты был ведущим, организуй тренировочные полеты». «Т» надо выложить, организовать наряд, пожарника, врача, санитарку. Все это я организовал. Самолеты были одноместные, и нашей четверке надо было тренироваться самим, без инструкторов. Первым должен был лететь я. Взлетел, сделал несколько кругов над аэродромом. Сажусь, и вдруг в конце пробега ни с того ни с сего как бросит меня влево в кабине, я сразу не понял, в чем дело. Ударился плечом о борт кабины. Левую «ногу» самолета подломал, консоль крыла и одна из лопастей винта согнулась. Потом уже выяснилось, что сломалась защелка, стопорившая дутик, а поскольку скорость была большая, то машину повело, и я не удержал самолет.
Комиссаром полка был майор Сопельняк. Как раз в то время прошли слухи, что готовится операция, что немцы хотят взять реванш за Сталинград и будут наступать на Курском выступе. И вот за несколько дней до начала сражения он собирает партийное собрание, а я был кандидатом в члены партии, и на нем меня должны были принять в члены партии. Выступил майор и, не указывая фамилию, «проехался» по мне, видимо, еще не зная причину аварии. «Вот некоторые летчики, которые для Родины еще ничего не сделали… Не принесли пользу, а только ущерб, самолет сломали». Хотя он учебный, не боевой, старенький самолет, на котором летчики тренировались, но меня так заело, когда он так сказал! Я так хотел на фронт! 12 июля началось наше наступление, и полк заработал. В первый день боев тех троих летчиков, которые со мной прибыли, и других молодых летчиков включили в боевой расчет, а меня – нет! Я эту обиду переживал очень тяжело, но на второй день включили и меня!
(По состоянию на 11.07.43 г. в 566-й ШАП имелось 20 самолетов Ил-2, из них исправных 17, летчиков 37, из них 22 боеготовых. За июль полк потерял 7 самолетов Ил-2, не вернувшихся с боевого задания, и 7 Ил-2, отправленных в САМ для ремонта и восстановления. – Прим. О. Растренина.)
Первый вылет проходил как во сне. Я летел на одноместном штурмовике. Летишь, следишь за группой. Ведущий, командир эскадрильи, – опытный боевой летчик, он ведет группу. Ты стараешься держаться в строю, чтобы тебя не зацепило в воздухе винтом или крылом. Только вижу, что ведущий в пике пошел, делаю то же самое. Посмотрел – бомбы пошли, рвутся, стреляют, а куда, что – непонятно!
Потом меня пересадили на двухместный штурмовик, со стрелком. В четвертом или пятом вылете со мной произошел такой казус. Погода была хорошая – июль и по температуре, и по боевому накалу был жарким. Мы шли на высоте полторы или тысяча триста метров. Мы ходили на нечетных высотах, но не выше двух тысяч, потому что были уверены, что у немцев зенитки пристрелены на четные высоты. Так вот мы уже возвращались обратно после выполнения задания, и вдруг мне показалось, что меня атакует немецкий самолет! Я даю газ, ручку от себя и пикирую почти отвесно. Скорость большая, самолет трясет, мне бы скорее до земли и уйти! Потом, уже когда мы прилетели на аэродром, стрелок сказал мне: «Немецкого самолета я не видел. Но ты так пикировал, что у меня в глазах было темно». Стрелок был уже опытный, и я ему поверил. Потом летчик-истребитель, из тех, что нас прикрывали (они на том же аэродроме базировались, что и мы), сказал мне, что это я его принял за немца. Он потом смеялся: «Ты так пикировал, что мне страшно было! Я думаю – уйду подальше от тебя!» Жара была… Вши нас заели, хотя был какой-то водоем, где мы купались, стирали белье. Да и с этими вшами не унывали, вот что значит молодость. Брали лист бумаги: круг начертим, каждый свою вшу поймает и пускает. Чья первая пришла до центра, тот выигрывает сто грамм вечером. «Вшанка» игра называлась.
Кормили всегда отлично. Даже витамины давали, каждый день – шоколад. Курящим летчикам давали «Казбек». Я тогда не курил, отдавал. Потом мне сказали: «Бери вместо «Казбека» двойную норму шоколада!» А деньги, которые нам платили, я отправлял родителям. Насколько я помню, летчик получал 900-1100 рублей в месяц кроме того, что его и кормили, и одевали.
Землю я начал видеть, наверное, вылета с десятого. Тут уже я начал летать более осознанно. Как правило, летчики-штурмовики погибали на первых десяти вылетах, среди тех, кто перешагнул этот рубеж, потерь было меньше, хотя, конечно, гибли и после. Мне на штурмовике летать нравилось, это очень хороший самолет. Такой живучий! Много раз приходил с дырками в плоскостях. Мотор прекрасно работал. Ну, если мотор повредили, тогда он, конечно, планировал очень плохо: 6 тонн – идет, как камень.
Комиссар и командир в полку были летающими. Командиром полка был молдаванин Николай Домущей. Как нам казалось, пожилой – 43 года, мы его звали «стариком». У него было всего 18–20 боевых вылетов, но ответственных. На Брянский мост он водил весь полк. Правда, в полку в это время летчиков 15, наверное, было, не больше. Кто-то из этих пятнадцати попал, и средний пролет моста обрушился. Мы считали, что попал Вася Мыхлик, впоследствии дважды Герой Советского Союза. Я шел последним, с бомбами и с фотоаппаратом – моим заданием было сфотографировать результаты удара полка. Когда я фотографировал, уже видел, что мост разрушен, и поэтому сбросил бомбы вдоль железнодорожного полотна – для порядка, на аэродром садиться с бомбами было нельзя. Если бы никто не попал, я бы тоже бомбы бросил на мост, – но уже не было такой необходимости.
До сентября 1943 года я совершил примерно 20 боевых вылетов. К этому времени нас, летчиков, оставалось человек десять, и столько же самолетов. Летчиков посбивали, а самолетов, конечно, было уничтожено еще больше. Нас направили в резерв ставки Верховного главнокомандования в район между Серпуховом и Лопасней. Там мы получили пополнение: молодых летчиков, воздушных стрелков. Пришла новая материальная часть. Получили и самолеты с 37-миллиметровыми пушками. В резерве мы пробыли до декабря, а в середине декабря узнали, что нас направляют на Ленинградский фронт. Погода стояла плохая, но наш полк сумел без потерь добраться до аэродрома Горское, в пригороде Ленинграда.
Операция по снятию блокады началась в январе. Мы летали на «сопровождение» танкистов, пехоты; работали по артиллеристским позициям противника, летали на разведку – все это с аэродрома Горское. В общей сложности на Ленинградском фронте я совершил еще 20 боевых вылетов. Основную задачу мы выполнили – отогнали немцев от Ленинграда. Тогда нас перебросили под Кингисепп на аэродром Торн. Там продолжалась наша боевая работа. Очень сильное сопротивление немцы оказали под городом Нарва, где в укрепрайоне была окружена их крупная группировка. Свой последний, сорок девятый, вылет я совершил в этот район 20 февраля 1944 года в составе четверки штурмовиков. Я делал разворот для следующего захода, и в это время меня подловили зенитки. Крупнокалиберный пулемет пробил обшивку кабины, пуля попала в левую руку, раздробив кости предплечья и вырвав кусок кости, так, что потом образовался «ложный сустав». Кроме этого, я был ранен в грудь.
Я немножко прошел в сторону Таллина. Думаю, надо разворачиваться! Кровь течет, рука левая не работает. Ручку я зажал коленками, правой рукой управлял сектором газа. Вроде барашек закрутишь, а он от вибрации отходит, значит, опять надо увеличивать обороты и опять барашком фиксировать. Я кое-как «блинчиком» развернулся. Взял курс на восток и полетел. Приборная доска разбита, в глазах черные круги расходятся. Карта в планшете есть, но я не мог рассмотреть ее – ничего не видел, глаза затмило. Пролетел 10–15 минут, чувствую, мне становится хуже. Думаю, сейчас потеряю сознание, и стрелок погибнет, – а он жив и не ранен. Увидел какую-то заснеженную поляну. Справа, спереди и слева лес. Первое решение – всегда самое правильное. Если начинаешь думать, как сделать: «Так или так? А может быть, так лучше?» – больше шансов погибнуть, поэтому я принял решение сразу. Думаю, дальше все равно сознание потеряю! Ручку зажал коленками, сектор газа правой рукой на себя убрал. Двигатель работал отлично. Штурмовик тяжелый, как утюг, сразу пошел вниз. Шасси я не выпускал, коснулся, ручку на себя подобрал, еще касание, и – он носом в снег зарылся, винты погнул. Хотя я и на привязных ремнях, но по инерции все равно ударился о приборную доску и потерял сознание. Стрелок, младший сержант Леша Ткачев, вылез из второй кабины на плоскость, начал меня тормошить. Так получилось, что я тут же очнулся и больше сознания не терял.
Стрелок спрашивает меня, где мы сели на вынужденную, а я и сам не знаю. Только слышу – двигатель заглох, а генератор (умформер) еще работает. Я ему говорю: «Леша, все тумблеры на приборной доске вниз опусти». Он так и сделал. Все стихло, только слышно, как снег шипит, тает вокруг горячего мотора, и стрельбу – спереди по ходу самолета и сзади. Я не пойму, где мы: на переднем крае, или у немцев, или на нашей территории в Эстонии? Говорю: «Леша, давай, осторожно пойди, узнай».
Стрелок сделал мне перевязку индивидуальным пакетом, накрутив бинт прямо на комбинезон, взял свой наган и автомат. У меня был ТТ. Я ему говорю: «Загони патрон в патронник и взведи курок». Стрелок ушел, я взял ТТ в правую руку, засунул в комбинезон и сижу, жду его. Часа два он отсутствовал. Стали сгущаться сумерки, когда я увидел на горизонте три фигуры. Думаю, кто? Если немцы, постреляю для порядка, убью не убью, и сам застрелюсь. Я же изуродован, партбилет у меня в кармане, – они партийных расстреливали… Жду. Ближе подходят. Я увидел и понял, что первым идет Леша, а за ним, метрах в пяти, еще двое, что-то несут. Снега по колено, еле двигаются, останавливаются передохнуть. Смотрю, он руками машет – значит, не его ведут, а он ведет. Значит, мы не на немецкой территории. Оказалось, что Леша нашел медсанбат, шум поднял: «Там летчик раненый!», и ему выделили машину и двух эстонцев с носилками, не военных, в телогрейках и в ушанках.
Леша взял наши парашюты, бортпаек, и втроем они дотащили меня до дороги, где ждала машина. Я ему отдал свой пистолет, мне он уже не требовался. С километр проехали по лесу к санбату. Подошла моя очередь, и меня положили на один из двенадцати операционных столов. Пожилой хирург меня осмотрел и говорит своим помощникам: «Подготовьте инструмент для ампутации». Я значения этого слова не знал, но сразу понял, что он хочет руку отрезать. Я стал его просить: «Может быть, можно ее сохранить до госпиталя в Ленинграде?» Вдруг Леша Ткачев, как был в комбинезоне, ввалился в операционную. Сестры кричат, а он: «Где мой командир?», – и прется к операционному столу. Хирург говорит: «А это кто?» – «Мой воздушный стрелок. Нас подбили в вашем районе, мы сели на вынужденную». Он смотрит: «Вы летчик?» – Мне уже было 22 года, а выглядел я молодо. – «Такие юнцы летают!». Лешу выпроводили. Я хирурга опять прошу сохранить руку. Он ничего не сказал, только: «А если гангрена? Сейчас я только до локтя, а так можете лишиться всей руки!» Я опять прошу. Он промолчал, согласился. Начал чистить рану без наркоза, а потом наложил перевязку.
На День Советской Армии всех раненых повезли в Ленинград в товарных вагонах, в санитарном эшелоне. В основном там были танкисты и авиаторы. Часов в 10 вечера, 23 февраля, два немецких самолета начали бомбить Кингисепп. До станции эшелон не дошел два или три километра. Я видел, как рвались эшелоны со снарядами. Все обошлось для нас хорошо: наш эшелон немцы не бомбили. От Ленинграда до Кингисеппа было 140 км, но пока ремонтировали пути, мы стояли и смогли двинуться дальше только под утро. Поезд тащился медленно, и только на второй день мы прибыли в Ленинград. В госпитале вопрос об ампутации не стоял.
С конца февраля по октябрь 1944 года я провел в госпитале. У меня был свищ, рана под гипсом не заживала. Я чувствовал себя нормально, но из-за свища меня не выписывали. После госпиталя была комиссия, и меня списали с летной работы. Решение было: «Списать с летной работы по ранению, можно использовать на штабной должности». Так командование и сделало: с конца декабря 1944-го я служил на командном пункте 13-й Воздушной армии – руководил полетами, перелетами.
А. Д. В полку были большие потери?
– За войну 200 летчиков и стрелков погибли в полку. Из тех четырех, кто со мной пришел в полк, в живых остался я один. Мы так вчетвером и держались: Коля Кузнецов, москвич, из Новогиреева, Коля Юрьев из Саратова, армянин Варгес (мы его Володей звали) Марабьян и я. Мы воевали в одной эскадрилье, выпивали вместе. Каждый день после боевых вылетов сто грамм давали, но ста грамм мало было, и мы все время старались доставать самогонку. Организовывал нас Варгес. Он сочинил клятву, и мы поклялись, что живые съездят на родину погибших, расскажут родным, кто как погиб. Варгес предложил скрепить клятву кровью. Достал то ли бритву, то ли ножик, и каждому сделал надрез. Пошла кровь, и мы кровь смешали…
Первым Варгес и погиб. Погиб нелепо с адъютантом эскадрильи… Когда мы с Горского в Эстонию перелетали, он зацепился за высоковольтку. Не боевая потеря, что обидно. В феврале меня сбили, но я жив остался. Потом Коля Юрьев. Он возвращался с задания на Карельском перешейке и попал под залп «Катюш». Потом в Восточной Пруссии погиб и Коля Кузнецов. К этому времени Коля уже был командиром нашей 3-й эскадрильи, у него уже было 100 вылетов. Сбила его крупнокалиберная зенитка – прямым попаданием. Самолет развалился пополам, и вместе со стрелком они погибли – кто с ним в тот день летал, видели. У него сестра осталась. И не женат он был… В основном летчики все молодые были, неженатые. Только Воробьян был единственный среди нас женатый летчик, кроме командира. Он начинал воевать техником, а потом в Ивановской области переучивался на летчика и там женился на русской. Нина, как сейчас помню. У него была ее фотокарточка, и он так ею гордился! И ребенок у них родился…
Когда война закончилась, лет шесть я служил и потом поехал в Тамбов к родителям. Варгес жил где-то в Армении. Точный адрес он говорил, но в тот момент его у меня при себе не было. Потом, отпуск небольшой, надо к родителям, – где я там буду искать? Не выполнил я клятву… Но в Новогиреево к Колиной сестре я приехал. Хожу около дома, и меня просто всего трясет. Думаю: «Что я буду говорить? Коля погиб, а я жив!» Мне было стыдно, что я жив, а он нет… Ходил, ходил, и ушел, так до сестры и не дошел. А родственникам Коли Юрьева я потом написал письмо. В полку мне передали его ордена, и я после войны отослал их в Саратов и описал, со слов других, как он погиб.
К потерям мы относились как к неотъемлемой части нашей работы. Скажем, в сентябре или октябре 1943 года на формировании, когда мы получали пополнение, мы находились на аэродроме Волосово. Там во время тренировочных полетов получилось так: летчик Клочков выруливал на взлет, а его стрелок Лысенко был в увольнении в Москве. Он прибыл и видит, что его самолет, его летчик выруливает. Стрелок бежит навстречу: «Остановись, прекрати движение. Я полечу!» Клочков высаживает временного стрелка, сажает своего. Взлетели они. Он должен был сходить в зону, отработать упражнение, а потом кто-то из нас должен был лететь. Мы стоим, ожидаем своего вылета. Кто сидит на скамейках, кто стоит. Смотрим – Клочков пошел к земле со скольжением. Думаем, может, скольжение отрабатывает? Потом на горизонте взрыв, столб дыма… Командир полка дал машину, мы поехали. Они упали в поле и оба погибли… Это было на формировании, сто грамм не давали. Так мы хромовые сапоги Клочкова на водку поменяли, где-то что-то достали – и так его помянули. Острота потерь притупилась. Каждый был готов к тому, что завтра и он может погибнуть. Не знаю, как у кого, но у меня бывали такие мысли: может, завтра и моя очередь? Взлетаем на боевое задание, над аэродромом круг делаем, подстраиваемся один к другому, смотришь на аэродром, и мысли такие – а придется ли еще увидеть этот аэродром на обратном пути, будет ли этот обратный путь?
А. Д. Потери были в основном от зенитной артиллерии или от истребителей?
– На Курской дуге еще очень сильно действовали немецкие истребители, и вообще немецкая авиация имела некоторое преимущество в воздухе. Но лично мне с немецкими истребителями вплотную сталкиваться не приходилось – только один раз мне померещился истребитель. Но там же, на Курской дуге, я со стороны наблюдал, как немецкие истребители стреляют по штурмовикам. Пока стрелков не было, били с хвоста. Сзади подойдет – и расстреливает, а летчик ничего сделать не может. Когда самолеты стали двухместными, полегче стало. Стрелок попадет – не попадет, но трасса-то идет! Какой летчик захочет себя подставлять под огонь стрелка? А на Ленинградском фронте, в особенности когда сняли блокаду, господство в воздухе было уже за нашей авиацией. Так что там в основном от зениток гибли.
А. Д. Сколько у вас было стрелков?
А. Д. Радиостанции были?
– Все самолеты были оснащены и приемниками, и передатчиками, претензий к их работе у меня лично нет. Их тщательно проверяла служба связи полка.
А. Д. Прикрытие всегда было?
– Да. Обязательно. Но не всегда прикрывали разведчиков, особенно когда низкая облачность. Были случаи, я ходил без прикрытия. Но в основном всегда прикрытие выделялось.
А. Д. Случаи трусости были?
– Открытой трусости не было. Был у меня летчик Михаил Сысин. Мне летчики сказали, что от цели он отходит раньше, а когда я собираю группу, подстраивается и приходит с нами. Мы собираемся, а он у линии фронта ждет нас. Сам я этого не видел – я же ведущий. Я с ним побеседовал. Он говорит: «Очень страшно. Долго не выдерживаю работы над целью, выхожу». Ну, я ему сказал, чтобы он прекратил так делать, и после этого он летал нормально. Я его предупредил, мог под трибунал отдать, было у меня такое право. За трусость на фронте очень строго расправлялись. Впоследствии его сбили, он погиб. Он не был настоящим летчиком. Его подбили, а он не смог посадить самолет с ходу, стал выходить на второй круг, двигатель совсем «сдох», сорвался штопор и погиб над своей территорией. Потом я прилетел на П-2, в люльках привезли два трупа – Сысина и его стрелка.
А. Д. Можно было себе назначить больше полетов? Или наоборот. Сказать, что сегодня я плохо себя чувствую и не полечу?
– Отказаться от вылета? Только по болезни, но такое случалось очень редко.
А. Д. Особисты у вас были в полку? Как у вас с ними складывались отношения?
– Нормально. Он пытался меня завербовать в информаторы, чтобы я ему подробно рассказывал о своей эскадрилье. Ведь эскадрилья – это не только летчики, но и техники, оружейники, мотористы и так далее. Я отказался, сказав, что работаю вместе с заместителем по политчасти.
А. Д. У вас в полку были летчики, которые летали с 1941 года?
– Наш полк начал воевать в 1941 году на Калининском фронте на Р-5 и почти полностью погиб. Остались один или два человека, да и те уехали: кто в академию, кто еще куда-то. Когда я пришел в полк, летчиков, которые воевали бы с 1941 года, не было. После переформировки 621-го ШАП воевал под Сталинградом. Эти летчики тоже почти все погибли, причем некоторые – когда уже я летал. К 1945 году полк подошел составом, участвовавшим в операции «Багратион».
А. Д. В чем летали?
– Одеты были не особо хорошо. Зимой в меховых комбинезонах или теплых штанах и меховых куртках, летом – в куртках, сапогах и бриджах. Шлемофоны или летние, или меховые зимние. Некоторые даже в шинелях летали.
А. Д. Стрелки-женщины были?
– Летчиц или стрелков-женщин в нашем полку не было. В эскадрилье у меня было восемь девушек, а в полку их в общей сложности человек 30 было. Многие из них просились стрелками летать, но им отказывали. Девушки не летали.
9 мая 1945 года полк сделал последний боевой вылет, и тут объявили, что война окончена. Мы стреляли, выпивали, обнимались. Так продолжалось дня два – стояла анархия, никто нами не управлял. Ну а потом началась служба мирного времени…
Дубровский Леонид Сергеевич
Я родился в городе Тамбове в 1920 году. Окончив 8 классов средней школы, я не захотел учиться дальше в десятилетке, а решил получить какую-нибудь специальность. Поступил в Тамбовский железнодорожный техникум. Там, будучи учащимся 3-го курса, я без отрыва от учебы поступил в Тамбовский аэроклуб. Форму в аэроклубе не давали, только комбинезон, шлем и перчатки, а так ходили в своем. Нас привозили на аэродром под Тамбовом, кормили отличным «ворошиловским завтраком» (так он почему-то назывался), и начинались полеты.
Так совпало, что в 1940 году я одновременно окончил 4-й курс техникума и аэроклуб. В аэроклубе мы сдавали экзамены, которые принимала летная комиссия, состоявшая из инструкторов аэроклуба и летчиков-инструкторов Балашовского авиационно-летного училища. Технику пилотирования я сдал на «отлично», но материальную часть – средне: были у меня и тройки, и четверки. Тем не менее я поступил в это училище и 10 ноября 1940 года уже был в Балашове. Первые три месяца в училище мы были слушателями и проходили курс молодого красноармейца. Мы ходили на кухню, в караул, на станцию разгружать уголь, дрова, занимались строевой подготовкой. Кто заболевал или был непризывного возраста, тот мог подать рапорт, и его отчисляли. Я прошел все тяготы армейской службы и через три месяца стал настоящим курсантом.
В Балашове кроме теоретической подготовки и изучения материальной части начались и полеты. В аэроклубе мы летали на У-2, а здесь сначала учились на Р-5, УТ-2, а потом начались полеты на СБ. Мне он нравился: хороший, несложный самолет.
Что касается морально-политической подготовки, то после нападения Германии на Польшу в 1939 году нам было уже ясно, что скоро начнется война. От нас не скрывали, что мы готовимся к ней, и разговоры велись об этом довольно часто. Помню я и начало войны: в начале воскресного дня 22 июня 1941 года в училище проходили физкультурные соревнования. Сначала у нас были прыжки в длину, в высоту, а потом мы уже должны были бежать кросс. И вдруг кто-то из УЛО (так назывался учебно-летный отдел) кричит: «Заканчивайте соревнования!» Все побежали. Выступал Молотов с сообщением, что началась война, что немцы вероломно напали на Советский Союз. На этом же стадионе был митинг. В основном тон задавали инструкторы. Были патриотические выступления, но без шапкозакидательства. И прямо тут же инструкторы добровольно просились на фронт, писали рапорты. Действительно, они были отправлены. Мой инструктор лейтенант Малиновский тоже был направлен добровольцем на фронт. Потом от тех инструкторов, кто добровольно ушел на фронт вместе с ним, я узнал, что он погиб в 1941 году.
В училище, до начала войны, кормили нас отлично. Была курсантская столовая со столиками на четыре человека, нас обслуживали официантки. Как война началась, сразу порядки изменились. Официанток в столовой не стало, столики – на 12 человек. Дежурные курсанты сами ходили на кухню, готовили обеды, сами разносили бачки. Положение было уже солдатское. Наше училище было огорожено забором, а за забором стояли пехотные части, которые готовились к отправке на фронт. Недисциплинированных и плохо летавших начальники пугали отправкой «за забор», то есть в пехоту. И не только пугали, но и отправляли некоторых.
Летали мы мало: экономили горючее для фронта. Больше времени мы находились в караулах и на кухне. Мы закончили обучение на СБ. Некоторых курсантов на Р-5 направили на фронт. А нам пригнали учебные самолеты штурмовики Ил-2 – старенькие, непригодные для боевого применения, со снятым вооружением. Когда немцы подошли к Сталинграду, мы еще продолжали летать, и было несколько случаев, когда немецкие летчики сбивали курсантов, которые выполняли учебные полеты над аэродромом. Тогда было принято решение перебазировать нас в Сибирь, в Алтайский край, на станцию Бурла. Приехали, построили удобные землянки человек на 20–25 с печкой. Обучение на Ил-2 продолжалось. Позже нас перевели в город Славгород, где мы и закончили обучение. Нас, восемь летчиков, направили в город Щелково в Подмосковье для дальнейшего прохождения боевого применения на этом самолете. Добирались мы своим ходом: попутными поездами, товарными, пассажирскими. Никто нам даже проездные не давал!
В городе Щелкове стояла 1-я запасная учебно-тренировочная эскадрилья запасной бригады. Там я быстро закончил боевое применение, и меня оставили инструктором. Учил я таких же летчиков, как и сам, но по положению бывших на правах курсанта: он в первой кабине, я – во второй. В течение двух-трех месяцев через эскадрилью прошло несколько выпусков, и поступил приказ лететь на фронт. Это было весной 1943 года.
Меня как инструктора (хотя еще молодого) назначили старшим группы из восьми летчиков, которые прибыли из Балашовского училища, и направили на Западный фронт в 1-ю воздушную армию. Аэродром назывался Песоченский, он был расположен между Козельском и Калугой, прямо у реки Десны. Когда мы прилетели туда, то командир 224-й штурмовой авиационной дивизии сказал: «Четыре летчика остаются при штабе дивизии, а четверо – отправляются в 566-й полк. Выбирайте, кто с кем хотел бы воевать». Когда мы, четыре человека, перебазировались на полковой аэродром, командир полка говорит мне: «Раз ты был ведущим, организуй тренировочные полеты». «Т» надо выложить, организовать наряд, пожарника, врача, санитарку. Все это я организовал. Самолеты были одноместные, и нашей четверке надо было тренироваться самим, без инструкторов. Первым должен был лететь я. Взлетел, сделал несколько кругов над аэродромом. Сажусь, и вдруг в конце пробега ни с того ни с сего как бросит меня влево в кабине, я сразу не понял, в чем дело. Ударился плечом о борт кабины. Левую «ногу» самолета подломал, консоль крыла и одна из лопастей винта согнулась. Потом уже выяснилось, что сломалась защелка, стопорившая дутик, а поскольку скорость была большая, то машину повело, и я не удержал самолет.
Комиссаром полка был майор Сопельняк. Как раз в то время прошли слухи, что готовится операция, что немцы хотят взять реванш за Сталинград и будут наступать на Курском выступе. И вот за несколько дней до начала сражения он собирает партийное собрание, а я был кандидатом в члены партии, и на нем меня должны были принять в члены партии. Выступил майор и, не указывая фамилию, «проехался» по мне, видимо, еще не зная причину аварии. «Вот некоторые летчики, которые для Родины еще ничего не сделали… Не принесли пользу, а только ущерб, самолет сломали». Хотя он учебный, не боевой, старенький самолет, на котором летчики тренировались, но меня так заело, когда он так сказал! Я так хотел на фронт! 12 июля началось наше наступление, и полк заработал. В первый день боев тех троих летчиков, которые со мной прибыли, и других молодых летчиков включили в боевой расчет, а меня – нет! Я эту обиду переживал очень тяжело, но на второй день включили и меня!
(По состоянию на 11.07.43 г. в 566-й ШАП имелось 20 самолетов Ил-2, из них исправных 17, летчиков 37, из них 22 боеготовых. За июль полк потерял 7 самолетов Ил-2, не вернувшихся с боевого задания, и 7 Ил-2, отправленных в САМ для ремонта и восстановления. – Прим. О. Растренина.)
Первый вылет проходил как во сне. Я летел на одноместном штурмовике. Летишь, следишь за группой. Ведущий, командир эскадрильи, – опытный боевой летчик, он ведет группу. Ты стараешься держаться в строю, чтобы тебя не зацепило в воздухе винтом или крылом. Только вижу, что ведущий в пике пошел, делаю то же самое. Посмотрел – бомбы пошли, рвутся, стреляют, а куда, что – непонятно!
Потом меня пересадили на двухместный штурмовик, со стрелком. В четвертом или пятом вылете со мной произошел такой казус. Погода была хорошая – июль и по температуре, и по боевому накалу был жарким. Мы шли на высоте полторы или тысяча триста метров. Мы ходили на нечетных высотах, но не выше двух тысяч, потому что были уверены, что у немцев зенитки пристрелены на четные высоты. Так вот мы уже возвращались обратно после выполнения задания, и вдруг мне показалось, что меня атакует немецкий самолет! Я даю газ, ручку от себя и пикирую почти отвесно. Скорость большая, самолет трясет, мне бы скорее до земли и уйти! Потом, уже когда мы прилетели на аэродром, стрелок сказал мне: «Немецкого самолета я не видел. Но ты так пикировал, что у меня в глазах было темно». Стрелок был уже опытный, и я ему поверил. Потом летчик-истребитель, из тех, что нас прикрывали (они на том же аэродроме базировались, что и мы), сказал мне, что это я его принял за немца. Он потом смеялся: «Ты так пикировал, что мне страшно было! Я думаю – уйду подальше от тебя!» Жара была… Вши нас заели, хотя был какой-то водоем, где мы купались, стирали белье. Да и с этими вшами не унывали, вот что значит молодость. Брали лист бумаги: круг начертим, каждый свою вшу поймает и пускает. Чья первая пришла до центра, тот выигрывает сто грамм вечером. «Вшанка» игра называлась.
Кормили всегда отлично. Даже витамины давали, каждый день – шоколад. Курящим летчикам давали «Казбек». Я тогда не курил, отдавал. Потом мне сказали: «Бери вместо «Казбека» двойную норму шоколада!» А деньги, которые нам платили, я отправлял родителям. Насколько я помню, летчик получал 900-1100 рублей в месяц кроме того, что его и кормили, и одевали.
Землю я начал видеть, наверное, вылета с десятого. Тут уже я начал летать более осознанно. Как правило, летчики-штурмовики погибали на первых десяти вылетах, среди тех, кто перешагнул этот рубеж, потерь было меньше, хотя, конечно, гибли и после. Мне на штурмовике летать нравилось, это очень хороший самолет. Такой живучий! Много раз приходил с дырками в плоскостях. Мотор прекрасно работал. Ну, если мотор повредили, тогда он, конечно, планировал очень плохо: 6 тонн – идет, как камень.
Комиссар и командир в полку были летающими. Командиром полка был молдаванин Николай Домущей. Как нам казалось, пожилой – 43 года, мы его звали «стариком». У него было всего 18–20 боевых вылетов, но ответственных. На Брянский мост он водил весь полк. Правда, в полку в это время летчиков 15, наверное, было, не больше. Кто-то из этих пятнадцати попал, и средний пролет моста обрушился. Мы считали, что попал Вася Мыхлик, впоследствии дважды Герой Советского Союза. Я шел последним, с бомбами и с фотоаппаратом – моим заданием было сфотографировать результаты удара полка. Когда я фотографировал, уже видел, что мост разрушен, и поэтому сбросил бомбы вдоль железнодорожного полотна – для порядка, на аэродром садиться с бомбами было нельзя. Если бы никто не попал, я бы тоже бомбы бросил на мост, – но уже не было такой необходимости.
До сентября 1943 года я совершил примерно 20 боевых вылетов. К этому времени нас, летчиков, оставалось человек десять, и столько же самолетов. Летчиков посбивали, а самолетов, конечно, было уничтожено еще больше. Нас направили в резерв ставки Верховного главнокомандования в район между Серпуховом и Лопасней. Там мы получили пополнение: молодых летчиков, воздушных стрелков. Пришла новая материальная часть. Получили и самолеты с 37-миллиметровыми пушками. В резерве мы пробыли до декабря, а в середине декабря узнали, что нас направляют на Ленинградский фронт. Погода стояла плохая, но наш полк сумел без потерь добраться до аэродрома Горское, в пригороде Ленинграда.
Операция по снятию блокады началась в январе. Мы летали на «сопровождение» танкистов, пехоты; работали по артиллеристским позициям противника, летали на разведку – все это с аэродрома Горское. В общей сложности на Ленинградском фронте я совершил еще 20 боевых вылетов. Основную задачу мы выполнили – отогнали немцев от Ленинграда. Тогда нас перебросили под Кингисепп на аэродром Торн. Там продолжалась наша боевая работа. Очень сильное сопротивление немцы оказали под городом Нарва, где в укрепрайоне была окружена их крупная группировка. Свой последний, сорок девятый, вылет я совершил в этот район 20 февраля 1944 года в составе четверки штурмовиков. Я делал разворот для следующего захода, и в это время меня подловили зенитки. Крупнокалиберный пулемет пробил обшивку кабины, пуля попала в левую руку, раздробив кости предплечья и вырвав кусок кости, так, что потом образовался «ложный сустав». Кроме этого, я был ранен в грудь.
Я немножко прошел в сторону Таллина. Думаю, надо разворачиваться! Кровь течет, рука левая не работает. Ручку я зажал коленками, правой рукой управлял сектором газа. Вроде барашек закрутишь, а он от вибрации отходит, значит, опять надо увеличивать обороты и опять барашком фиксировать. Я кое-как «блинчиком» развернулся. Взял курс на восток и полетел. Приборная доска разбита, в глазах черные круги расходятся. Карта в планшете есть, но я не мог рассмотреть ее – ничего не видел, глаза затмило. Пролетел 10–15 минут, чувствую, мне становится хуже. Думаю, сейчас потеряю сознание, и стрелок погибнет, – а он жив и не ранен. Увидел какую-то заснеженную поляну. Справа, спереди и слева лес. Первое решение – всегда самое правильное. Если начинаешь думать, как сделать: «Так или так? А может быть, так лучше?» – больше шансов погибнуть, поэтому я принял решение сразу. Думаю, дальше все равно сознание потеряю! Ручку зажал коленками, сектор газа правой рукой на себя убрал. Двигатель работал отлично. Штурмовик тяжелый, как утюг, сразу пошел вниз. Шасси я не выпускал, коснулся, ручку на себя подобрал, еще касание, и – он носом в снег зарылся, винты погнул. Хотя я и на привязных ремнях, но по инерции все равно ударился о приборную доску и потерял сознание. Стрелок, младший сержант Леша Ткачев, вылез из второй кабины на плоскость, начал меня тормошить. Так получилось, что я тут же очнулся и больше сознания не терял.
Стрелок спрашивает меня, где мы сели на вынужденную, а я и сам не знаю. Только слышу – двигатель заглох, а генератор (умформер) еще работает. Я ему говорю: «Леша, все тумблеры на приборной доске вниз опусти». Он так и сделал. Все стихло, только слышно, как снег шипит, тает вокруг горячего мотора, и стрельбу – спереди по ходу самолета и сзади. Я не пойму, где мы: на переднем крае, или у немцев, или на нашей территории в Эстонии? Говорю: «Леша, давай, осторожно пойди, узнай».
Стрелок сделал мне перевязку индивидуальным пакетом, накрутив бинт прямо на комбинезон, взял свой наган и автомат. У меня был ТТ. Я ему говорю: «Загони патрон в патронник и взведи курок». Стрелок ушел, я взял ТТ в правую руку, засунул в комбинезон и сижу, жду его. Часа два он отсутствовал. Стали сгущаться сумерки, когда я увидел на горизонте три фигуры. Думаю, кто? Если немцы, постреляю для порядка, убью не убью, и сам застрелюсь. Я же изуродован, партбилет у меня в кармане, – они партийных расстреливали… Жду. Ближе подходят. Я увидел и понял, что первым идет Леша, а за ним, метрах в пяти, еще двое, что-то несут. Снега по колено, еле двигаются, останавливаются передохнуть. Смотрю, он руками машет – значит, не его ведут, а он ведет. Значит, мы не на немецкой территории. Оказалось, что Леша нашел медсанбат, шум поднял: «Там летчик раненый!», и ему выделили машину и двух эстонцев с носилками, не военных, в телогрейках и в ушанках.
Леша взял наши парашюты, бортпаек, и втроем они дотащили меня до дороги, где ждала машина. Я ему отдал свой пистолет, мне он уже не требовался. С километр проехали по лесу к санбату. Подошла моя очередь, и меня положили на один из двенадцати операционных столов. Пожилой хирург меня осмотрел и говорит своим помощникам: «Подготовьте инструмент для ампутации». Я значения этого слова не знал, но сразу понял, что он хочет руку отрезать. Я стал его просить: «Может быть, можно ее сохранить до госпиталя в Ленинграде?» Вдруг Леша Ткачев, как был в комбинезоне, ввалился в операционную. Сестры кричат, а он: «Где мой командир?», – и прется к операционному столу. Хирург говорит: «А это кто?» – «Мой воздушный стрелок. Нас подбили в вашем районе, мы сели на вынужденную». Он смотрит: «Вы летчик?» – Мне уже было 22 года, а выглядел я молодо. – «Такие юнцы летают!». Лешу выпроводили. Я хирурга опять прошу сохранить руку. Он ничего не сказал, только: «А если гангрена? Сейчас я только до локтя, а так можете лишиться всей руки!» Я опять прошу. Он промолчал, согласился. Начал чистить рану без наркоза, а потом наложил перевязку.
На День Советской Армии всех раненых повезли в Ленинград в товарных вагонах, в санитарном эшелоне. В основном там были танкисты и авиаторы. Часов в 10 вечера, 23 февраля, два немецких самолета начали бомбить Кингисепп. До станции эшелон не дошел два или три километра. Я видел, как рвались эшелоны со снарядами. Все обошлось для нас хорошо: наш эшелон немцы не бомбили. От Ленинграда до Кингисеппа было 140 км, но пока ремонтировали пути, мы стояли и смогли двинуться дальше только под утро. Поезд тащился медленно, и только на второй день мы прибыли в Ленинград. В госпитале вопрос об ампутации не стоял.
С конца февраля по октябрь 1944 года я провел в госпитале. У меня был свищ, рана под гипсом не заживала. Я чувствовал себя нормально, но из-за свища меня не выписывали. После госпиталя была комиссия, и меня списали с летной работы. Решение было: «Списать с летной работы по ранению, можно использовать на штабной должности». Так командование и сделало: с конца декабря 1944-го я служил на командном пункте 13-й Воздушной армии – руководил полетами, перелетами.
А. Д. В полку были большие потери?
– За войну 200 летчиков и стрелков погибли в полку. Из тех четырех, кто со мной пришел в полк, в живых остался я один. Мы так вчетвером и держались: Коля Кузнецов, москвич, из Новогиреева, Коля Юрьев из Саратова, армянин Варгес (мы его Володей звали) Марабьян и я. Мы воевали в одной эскадрилье, выпивали вместе. Каждый день после боевых вылетов сто грамм давали, но ста грамм мало было, и мы все время старались доставать самогонку. Организовывал нас Варгес. Он сочинил клятву, и мы поклялись, что живые съездят на родину погибших, расскажут родным, кто как погиб. Варгес предложил скрепить клятву кровью. Достал то ли бритву, то ли ножик, и каждому сделал надрез. Пошла кровь, и мы кровь смешали…
Первым Варгес и погиб. Погиб нелепо с адъютантом эскадрильи… Когда мы с Горского в Эстонию перелетали, он зацепился за высоковольтку. Не боевая потеря, что обидно. В феврале меня сбили, но я жив остался. Потом Коля Юрьев. Он возвращался с задания на Карельском перешейке и попал под залп «Катюш». Потом в Восточной Пруссии погиб и Коля Кузнецов. К этому времени Коля уже был командиром нашей 3-й эскадрильи, у него уже было 100 вылетов. Сбила его крупнокалиберная зенитка – прямым попаданием. Самолет развалился пополам, и вместе со стрелком они погибли – кто с ним в тот день летал, видели. У него сестра осталась. И не женат он был… В основном летчики все молодые были, неженатые. Только Воробьян был единственный среди нас женатый летчик, кроме командира. Он начинал воевать техником, а потом в Ивановской области переучивался на летчика и там женился на русской. Нина, как сейчас помню. У него была ее фотокарточка, и он так ею гордился! И ребенок у них родился…
Когда война закончилась, лет шесть я служил и потом поехал в Тамбов к родителям. Варгес жил где-то в Армении. Точный адрес он говорил, но в тот момент его у меня при себе не было. Потом, отпуск небольшой, надо к родителям, – где я там буду искать? Не выполнил я клятву… Но в Новогиреево к Колиной сестре я приехал. Хожу около дома, и меня просто всего трясет. Думаю: «Что я буду говорить? Коля погиб, а я жив!» Мне было стыдно, что я жив, а он нет… Ходил, ходил, и ушел, так до сестры и не дошел. А родственникам Коли Юрьева я потом написал письмо. В полку мне передали его ордена, и я после войны отослал их в Саратов и описал, со слов других, как он погиб.
К потерям мы относились как к неотъемлемой части нашей работы. Скажем, в сентябре или октябре 1943 года на формировании, когда мы получали пополнение, мы находились на аэродроме Волосово. Там во время тренировочных полетов получилось так: летчик Клочков выруливал на взлет, а его стрелок Лысенко был в увольнении в Москве. Он прибыл и видит, что его самолет, его летчик выруливает. Стрелок бежит навстречу: «Остановись, прекрати движение. Я полечу!» Клочков высаживает временного стрелка, сажает своего. Взлетели они. Он должен был сходить в зону, отработать упражнение, а потом кто-то из нас должен был лететь. Мы стоим, ожидаем своего вылета. Кто сидит на скамейках, кто стоит. Смотрим – Клочков пошел к земле со скольжением. Думаем, может, скольжение отрабатывает? Потом на горизонте взрыв, столб дыма… Командир полка дал машину, мы поехали. Они упали в поле и оба погибли… Это было на формировании, сто грамм не давали. Так мы хромовые сапоги Клочкова на водку поменяли, где-то что-то достали – и так его помянули. Острота потерь притупилась. Каждый был готов к тому, что завтра и он может погибнуть. Не знаю, как у кого, но у меня бывали такие мысли: может, завтра и моя очередь? Взлетаем на боевое задание, над аэродромом круг делаем, подстраиваемся один к другому, смотришь на аэродром, и мысли такие – а придется ли еще увидеть этот аэродром на обратном пути, будет ли этот обратный путь?
А. Д. Потери были в основном от зенитной артиллерии или от истребителей?
– На Курской дуге еще очень сильно действовали немецкие истребители, и вообще немецкая авиация имела некоторое преимущество в воздухе. Но лично мне с немецкими истребителями вплотную сталкиваться не приходилось – только один раз мне померещился истребитель. Но там же, на Курской дуге, я со стороны наблюдал, как немецкие истребители стреляют по штурмовикам. Пока стрелков не было, били с хвоста. Сзади подойдет – и расстреливает, а летчик ничего сделать не может. Когда самолеты стали двухместными, полегче стало. Стрелок попадет – не попадет, но трасса-то идет! Какой летчик захочет себя подставлять под огонь стрелка? А на Ленинградском фронте, в особенности когда сняли блокаду, господство в воздухе было уже за нашей авиацией. Так что там в основном от зениток гибли.
А. Д. Сколько у вас было стрелков?