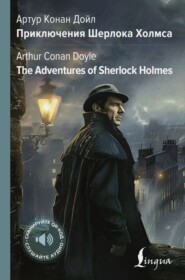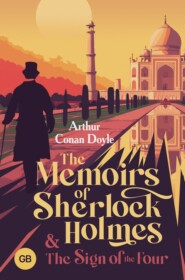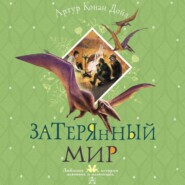По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма молодого врача. Загородные приключения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай-давай, тупой осел! – ответил я. – Из-за чего нам драться?
Он обезумел от злости и швырнул перчатки под стол.
– Ей-богу, Монро! – вскричал он. – Если ты не снимешь перчатки, я тебя достану, в перчатках ты или нет!
– Выпей содовой, – сказал я.
Он презрительно взглянул на меня.
– Ты меня боишься, Монро, – прорычал он. – Вот в чем все дело.
Дело стало заходить слишком далеко, Берти. Я понимал всю абсурдность ситуации. Я думал, что смогу одержать над ним верх, но в то же время знал, что наши силы примерно равны, и мы оба можем сильно поколотить друг дружку безо всякой пользы. И все-таки я снял перчатки, решив, что так благоразумнее всего. Если Каллингворт подумает, что у него есть надо мной преимущество, то потом я могу об этом пожалеть.
Но судьбе было угодно задавить нашу свару в самом зародыше. В ту секунду в комнату вошла миссис Каллингворт и взвизгнула, увидев мужа. У него из носа сочилась кровь и стекала на подбородок, так что я не удивился ее реакции.
– Джеймс! – вскрикнула она и повернулась ко мне. – Что все это значит, мистер Монро?
Ты бы видел, какой ненавистью пылали ее кроткие глаза. Я ощутил безумный порыв подхватить ее на руки и поцеловать.
– Мы всего лишь немного побоксировали, миссис Каллингворт, – ответил я. – Ваш муж жаловался, что ему не удается заняться физическими упражнениями.
– Все нормально, Гетти, – сказал он, снова надевая сюртук. – Не глупи. Слуги уже улеглись спать? Ну, тогда пронеси мне в тазике воды из кухни. Садись, Монро, и закуривай трубку. Мне надо об очень многом с тобой поговорить.
На этом все и кончилось, и остаток вечера прошел спокойно. Но все-таки его миниатюрная жена всегда будет видеть во мне негодяя и забияку. Что же до Каллингворта… Довольно трудно сказать, что он думает об этом деле.
Когда я проснулся на следующее утро, он оказался у меня в комнате и являл собою довольно забавное зрелище. Его халат лежал на стуле, а сам он голышом выжимал двадцатикилограммовую гирю. Природа не наградила его лицо ни симметрией, ни приятным выражением, но фигура у него была, как у греческой статуи. Я с улыбкой заметил, что оба его глаза украшают синяки. Настала его очередь улыбнуться, когда я сел на кровати и обнаружил, что мое ухо по форме и на ощупь напоминает мухомор. Однако в то утро Каллингворт вел себя чрезвычайно дружелюбно и болтал в самой добродушной манере.
В тот день мне надо было вернуться домой, к отцу, но до отъезда я провел пару часов с Каллингвортом у него в кабинете. Он пребывал в прекрасном настроении и выдавал сотни хитроумных способов, какими я мог бы ему помочь. Его главной целью было, чтобы его имя попало в газеты. По его мнению, это являлось залогом успеха. Мне казалось, что он путает причину со следствием, но с ним не спорил. Я до боли в боку смеялся над его замысловатыми предложениями, которыми он буквально фонтанировал. Я должен был лежать без чувств на обочине дороги, чтобы милосердная толпа отнесла меня к нему, после чего лакей бросится разносить заметку по газетам. Однако существовала вероятность, что меня отнесут к врачу-конкуренту на другой стороне улицы. В разных ипостасях я должен был симулировать припадки у двери Каллингворта, чтобы дать газетчикам очередной повод обмолвиться о нем. Потом я должен был умереть, испустить дух, а вся Шотландия должна была трубить о том, как доктор Каллингворт из Авонмута воскресил меня. Его изобретательный ум придумывал сотни вариаций на одну тему, а нависавшее над ним банкротство поблекло в его голове под натиском несерьезных и вздорных задумок.
Но его веселость тотчас улетучивалась, он начинал скрежетать зубами и быстро расхаживать по комнате, рассыпая ругательства, когда видел пациента, поднимавшегося по ступенькам к двери Скарсдейла, его соседа напротив. Скарсдейл имел довольно неплохую практику и принимал на дому с десяти до двенадцати утра, так что я почти привык к тому, как Каллингворт вскакивал со стула и с проклятиями бросался к окну. Он сразу же ставил диагнозы и прикидывал гонорары за лечение, пока не начинал заговариваться.
– Вот! – внезапно вскрикивал он. – Видишь хромающего мужчину? Он приходит каждое утро. Смещение мениска в коленном суставе, там на три месяца работы. Он приносит тридцать пять шиллингов в неделю. А вот еще! Пусть меня повесят, если это снова не женщина в инвалидной коляске с ревматическим артритом. Она прямо вся тюленья кожа и молочная кислота. Просто тошнит от вида того, как валят к этому врачу. А что за врач! Ты его не видел, и тем лучше для тебя. Не знаю, чему ты, черт подери, смеешься, Монро. Не вижу, с чего бы мне веселиться.
Та поездка в Авонмут продлилась недолго, но мне кажется, что я запомню ее на всю жизнь. Видит Бог, что этот предмет тебя изрядно утомил, но когда я начал такой подробный рассказ, меня так и подмывало продолжать. Все закончилось с моим возвращением тем же днем, Каллингворт заверял меня, что соберет вместе своих кредиторов, как я ему и советовал, и сообщит о результатах через несколько дней. Миссис Каллингворт едва удосужилась подать мне руку, когда я с ней прощался, но от этого она понравилась мне еще больше. В Каллингворте наверняка много достоинств, иначе он не смог бы полностью завоевать любовь и доверие этой женщины. Возможно, где-то на заднем плане таится совсем другой Каллингворт – более мягкий и нежный, который может любить и пробуждать любовь. Если так оно и есть, то я и близко с ним незнаком. Возможно, я лишь постукивал пальцами по скорлупе. Кто знает? Если уж на то пошло, весьма вероятно, что он никогда не сталкивался с настоящим Джонни Монро. Но ты-то меня знаешь, Берти, и мне кажется, что на этот раз он порядком тебе надоел, а своими снисходительными ответами ты лишь поощряешь его словесные излишества. Что ж, написал я ровно столько, сколько почтовое ведомство сможет отправить за пять пенсов, так что закончу лишь тем, что отмечу – прошло две недели, а новостей из Авонмута нет, что совсем меня не удивляет. Если я что-то и узнаю, что весьма сомнительно, можешь быть уверен, что я закончу эту долгую историю.
Письмо третье
Дома, 15 октября 1881 года
Безо всякой образности признаюсь, что мне становится очень стыдно, когда я думаю о тебе, Берти. Я посылаю тебе два невероятно длинных письма, отягощенных, насколько я помню, совершенно ненужными подробностями. Затем, несмотря на твои добрые ответы и участливость, которых я вряд ли заслуживаю, я полностью забываю о тебе больше чем на полгода. Клянусь этим пером, такое больше не повторится, и этим письмом я, возможно, заполню образовавшийся пробел и посвящу тебя в свои текущие дела, к которым лишь ты из всего человечества проявляешь интерес.
Начну с замечания, что хочу тебя заверить: все, что ты сказал в своем последнем письме касательно религии привлекло мое самое пристальное внимание. Жаль, что его у меня нет для сверки (я дал почитать его Чарли), но, по-моему, я помню его содержание. Общеизвестно, как ты говоришь, что неверующий может быть таким же фанатиком, как и глубоко верующий человек, и что человек может быть очень догматичен в своем ниспровержении догм. Подобные люди суть настоящие враги свободной мысли. И если что-то сможет убедить меня предать свои принципы, то это, например, будут дурацкие кощунственные картинки, публикуемые в агностических изданиях.
Но у каждого движения существует целая толпа последователей и подпевал, склонных к разброду и шатаниям. Мы напоминаем комету, яркую в голове и рассеивающуюся в облако газа в хвосте. Однако каждый человек может говорить за себя, и я не чувствую, что твое обвинение относится ко мне. Я фанатичен лишь в борьбе с фанатизмом, и мне это представляется столь же законным, как и насилие в борьбе с насилием. Когда принимаешь во внимание, какие последствия имели для мировой истории извращения религиозных чувств (жуткие войны христиан и мусульман, католиков и протестантов, казни, пытки, междоусобная вражда, мелочные склоки, при этом все верования в равной степени измазаны кровью), то остается лишь поражаться, как совокупный глас человечества не поместил фанатизм на первое место в списке смертных грехов. И, конечно же, банально заявлять, что ни оспа, ни чума не принесли человечеству столько горя и страданий.
Меня нельзя причислить к фанатикам, дорогой мой, потому как я от чистого сердца говорю, что уважаю каждого доброго католика и каждого доброго протестанта, и признаю, что каждое из этих вероисповеданий является мощным орудием в руках управляющего всем непостижимого Провидения. Как в ходе истории человек обнаруживает, что самые далеко идущие и выдающиеся последствия могут происходить из преступления, так и в религии, хотя вера может основываться на совершенно несуразной концепции Создателя и Его деяний, она тем не менее может оказаться наиболее подходящей для людей и времени, когда была принята. Но если она правильна для тех, кто интеллектуально удовольствуется ее принятием, это также приемлемо для тех, кто не довольствуется ее принятием, кто против нее протестует, пока в результате этого процесса все человечество постепенно подвергается брожению и продвигается чуть вперед по пути поступательного развития.
Католицизм более глубок и обстоятелен. Протестантизм более приземлен и рационален. Протестантизм приспосабливается к современной цивилизации, католицизм надеется, что цивилизация приспособится к нему. Люди перемещаются с одной большой ветви на другую и считают, что произвели огромную перемену, в то время как ствол под ними прогнил, и обе ветви в их теперешней форме рано или поздно будут вовлечены в общую погибель. Движение человеческой мысли, пусть и медленное, по-прежнему направлено в сторону правды, и различные религии (каждая прекрасна в свое время), от которых человек избавляется по мере продвижения вперед, служат своего рода буйками, сбрасываемыми с борта корабля, призванными указывать скорость и направление прогресса.
Но как мне узнать, что есть истина, спросишь ты? Никак. Но я довольно неплохо знаю, что не есть истина. И это, разумеется, немало. Неверно, что великий главный Ум, спланировавший все на свете, способен на зависть, месть, жестокость и несправедливость. Это человеческие качества, и книга, приписывающая их Бесконечности, наверняка является человеческим творением. Неверно, что законы природы были произвольно нарушены, что змеи разговаривали, что женщины превращались в соль, что скипетром добывалась вода из камней. Тебе нужно честно признать, что если бы подобные высказывания впервые преподносились нам взрослым, то мы бы улыбнулись. Неверно, что источник здравого смысла должен наказать народ за незначительный проступок, совершенный давно умершим человеком, а потом усугубить вопиющую несправедливость, обрушив возмездие на одного невинного козла отпущения. Разве ты не видишь, что такая концепция лишена справедливости и логики, не говоря уже о милосердии? Неужели не видишь, Берти? Как же можно ослепнуть до такой степени! Отвлекись на мгновение от подробностей и вглядись в ключевую идею господствующей веры. Разве ее общая концепция соответствует бесконечной мудрости и милосердию? Если нет, то что станется с догмами, символами, общей системой, построенной на песке? Мужайся, друг мой! В нужный момент все будет отброшено в сторону, как человек, чьи силы возрастают, откладывает костыль, который верно служил ему в дни болезни. Но на этом перемены не кончатся. Его хромота станет походкой, которая превратится в бег. Окончания переменам нет, его не может быть, поскольку вопрос относится к бесконечности. Все это, сегодня кажущееся тебе слишком заумным, через тысячу лет станет выглядеть реакционным и консервативным.
Поскольку я коснулся этой темы, можно сказать кое-что еще без боязни тебе наскучить? Ты говоришь, что критика вроде моей разрушительна, и мне нечего предложить взамен низвергнутого. Это не совсем верно. Мне думается, что нам доступны некие элементарные истины, не требующие веры для их принятия, и этих истин достаточно для предоставления нам практической религии, в которой достаточно рассудочности, чтобы привлечь к себе думающих людей, а не отвратить их.
Когда все мы вернемся к элементарным и доказуемым фактам, появится надежда прекратить мелкие дрязги между верованиями и включить всю человеческую семью в одну всеобъемлющую систему мысли.
Когда я впервые вышел из веры, в которой был воспитан, то, конечно, некоторое время чувствовал себя так, будто бы лишился опоры в жизни. Не будет преувеличением сказать, что я ощущал себя жалким и погруженным в полную духовную тьму. Для этого юность слишком полна всяких действий. Я осознавал какое-то смутное беспокойство, постоянное желание тишины, пустоту и одеревенелость, которых не замечал раньше. Я настолько отождествлял религию с Библией, что не мог их разделить. Когда фундамент оказался фальшивым, все сооружение с грохотом рухнуло. И тогда на помощь мне пришел добрый старый Карлейль[3 - Томас Карлейль (1795–1881) – английский писатель, философ и историк. В своих работах выдвинул «теорию героев», считая, что выдающиеся исторические личности («великие люди») определяют историю и двигают вперед человечество.], и при помощи его размышлений и своих раздумий я построил свой небольшой домик, в котором с тех пор нахожу покой и который даже послужил убежищем для парочки друзей.
Наипервейшее и главное, что следует хорошенько усвоить – это то, что существование Создателя и указания на его свойства никоим образом не зависят от еврейских пророков и поэтов, а также от бумаги и типографской краски. Напротив, все подобные попытки осознать Его лишь принижают Его, низводя Бесконечность до узких рамок человеческой мысли, причем в то время, когда мысль была в общем менее духовна, нежели теперь. Даже самый материалистичный из современных умов дрогнет при попытке описать Божество приказывающим проводить массовые казни и рубить властителей на части на алтарях.
Затем, подготовив свой ум к более высокой (пусть и, возможно, более расплывчатой) идее Божества, переходи к изучению Его в его делах, которые нельзя подделать или исказить. Природа – вот истинное откровение Божества человеку. Ближайшее зеленое поле есть вдохновенная страница, на которой можно прочитать все, что тебе нужно знать.
Признаюсь, что никогда не мог понять позицию атеиста. На самом деле я пришел к тому, что не верю в его существование и рассматриваю его слова лишь как форму теологического осуждения. Атеизм может представлять собой временное состояние, преходящую фазу умственного развития или дерзкую реакцию на антропоморфический идеал. Однако я не могу представить, что человек может продолжать наблюдать за природой и отрицать, что действуют законы, демонстрирующие интеллект и силу. Само существование мира несет в себе доказательство существования его создателя, как стол гарантирует существование плотника. В соответствии с этим человек может сформировать импонирующую ему концепцию Творца, но он не может быть атеистом.
Мудрость, мощь и направленные на достижение цели средства вписаны в структуру природы. Каких тогда доказательств мы хотим от книги? Если человек, наблюдающий мириады звезд и считающий, что они и их бесчисленные спутники размеренно движутся по небу, не пересекаясь орбитами, если, говорю я, человек, видит это и не может понять свойств Создателя без книги Иова, то его взгляд на мир находится за пределами моего понимания. И не только в больших явлениях мы видим вездесущую заботу некой разумной силы. Для нее нет ничего слишком малого. Мы видим, как крохотный хоботок насекомого аккуратно внедряется в чашечку цветка, как микроскопический волосок и желёзка исполняют свои определенные функции. Какая разница, плод они творения или результат эволюции? Нам на самом деле известно, что они суть результат эволюции, но это лишь определяет закон, но не объясняет его.
Но если эта сила позаботилась о пчеле, снабдив ее медовым желудочком и хоботками для сбора нектара, об обычном семени, снабдив его приспособлениями для попадания в плодородную почву, то возможно ли, что мы, венец творения, оказались обойденными? Такое невообразимо. Эта мысль не соотносится со структурой творения, как мы ее видим. Повторяю, что вера не нужна, чтобы обрести уверенность в существовании всевидящего Провидения.
И с подобной уверенностью у нас, конечно, есть все необходимое для элементарной религии. Что бы ни произошло после смерти, в этой жизни наши обязанности четко определены, и этики всех верований пока что сходятся в этом, так что вряд ли могут существовать какие-то расхождения во мнениях. Последняя реформация упростила католицизм. Грядущая реформация упростит протестантизм. А когда мир созреет, наступит еще одна реформация, которая его упростит. Постоянно совершенствующийся разум даст нам постоянно расширяющую свои границы веру. Разве не отрадно думать, что эволюция еще продолжает действовать, что если предок наш – человекообразная обезьяна, то потомками нашими могут быть архангелы?
Ну, вообще-то я не намеревался вываливать на тебя весь этот ворох информации. Думал, что смогу обрисовать свою позицию на страничке или около того. Но сам видишь, как одно влечет за собой другое. Даже теперь я многое оставляю невысказанным. Я с большой долей уверенности представляю, что именно ты скажешь. «Если ты выводишь существование благого Провидения из всего хорошего в природе, то как быть со всем плохим?» Вот что ты скажешь. Достаточно того, что я склонен отрицать существование зла. По этому поводу я больше не скажу ни слова, но если ты сам вернешься к этой теме, то думай и решай сам.
Ты помнишь, что в последнем письме я рассказывал, как только что вернулся из Авонмута от Каллингвортов, и что он обещал известить меня, какие шаги предпримет для умиротворения кредиторов. Как я и ожидал, я не получил от него ни словечка. Однако окольными путями я узнал кое-какие новости о случившемся. Из вторых рук с большой степенью преувеличения мне стало известно, что Каллингворт поступил именно так, как я ему советовал: созвал кредиторов и обратился к ним с пространным заявлением касательно своего положения. Эти добрые люди были столь тронуты нарисованной им картиной достойного человека, борющегося с превратностями судьбы, что некоторые из них заплакали, и все не только единогласно решили отсрочить уплату долга, но и даже заговорили о подписке, чтобы помочь Каллингворту поправить дела. Как я понимаю, он уехал из Авонмута, однако никто понятия не имеет, что с ним сталось. Общее мнение таково, что он отправился в Англию. Он странный человек, но я желаю ему удачи, где бы он ни был.
Когда я вернулся домой, то снова погрузился в рутину отцовской практики, помогая ему, пока что-нибудь не наклюнется. Мне пришлось ждать полгода – долгие и тягучие полгода. Понимаешь, я не могу просить у отца денег или, по крайней мере, не могу заставить себя взять лишний пенни из его накоплений, поскольку знаю, насколько ему трудно обеспечивать нам крышу над головой и платить за лошадь и рессорную двуколку, которая нужна ему для работы так же, как утюг портному. А сборщик налогов так и горазд выжать из нас пару гиней под предлогом того, что это роскошь! Мы продержимся, и я не сделаю его беднее хотя бы на фунт. Но ты сам понимаешь, Берти, что для мужчины моего возраста унизительно ходить с пустыми карманами. Это очень на меня давит. Бедняк может сделать мне доброе дело, а я покажусь ему скрягой. Могу захотеть подарить девушке цветы и должен буду выглядеть непочтительным. Не знаю, почему я должен этого стыдиться, поскольку в этом не моя вина, и надеюсь, что никому не покажу, что мне стыдно. Но тебе, дорогой мой Берти, охотно признаюсь, что это ужасно задевает мое чувство собственного достоинства.
Я часто удивляюсь, почему у писательской братии не доходят руки описать внутренний мир молодого человека от поры отрочества до времени его вставания на ноги. Мужчины очень любят анализировать чувства своих героинь, о которых им вряд ли что-нибудь известно, в то время как им почти нечего сказать о внутреннем мире их героев, через переживания которых они прошли сами. Я бы за это взялся, но понадобится фантазия, а у меня с воображением всегда было плохо. Но я ясно помню то, что пережил сам. В то время я думал (как и все остальные), что это был уникальный опыт, но после того, как я услышал признания пациентов отца, я убедился, что это общий удел. Ужасная сковывающая застенчивость, чередующаяся случайными абсурдными вспышками дерзости, являющимися реакцией на нее, тоска по крепкой дружбе, страдания по поводу воображаемых презрительных выпадов, необычные сексуальные переживания, смертельные страхи касательно несуществующих болезней, смутные чувства, вызываемые всеми женщинами, и пугливая дрожь в присутствии некоторых из них, агрессивность, вызванная боязнью перепугаться, внезапные наплывы меланхолии, глубокое недоверие к себе. Смею биться об заклад, Берти, что ты через все это прошел, как и я, и первый же восемнадцатилетний юноша, которого ты увидишь из окна, тоже страдает от всего этого.
Однако я отклоняюсь от того факта, что полгода сижу дома и порядком от этого устал. Я рад новому повороту событий, о котором придется тебе рассказать. Здешняя практика, хотя и не очень выгодная, полна вызовов по три шиллинга и шесть пенсов и наблюдением за состоянием заключенных с платой в одну гинею, так что у нас с отцом масса дел. Ты знаешь, как я им восхищаюсь, однако боюсь, что интеллектуальной общности у нас с ним очень мало. Он, похоже, думает, что мои взгляды на религию и политику, идущие из глубины души, зародились у меня в результате равнодушия или бравады. Поэтому я перестал говорить с ним об этих животрепещущих предметах, и хотя мы делаем вид, что этих тем не существует, мы оба знаем, что между нами существует некая преграда. Что же до моей матери… ах, она заслуживает отдельного пассажа.
Ты же знаком с нею, Берти! Ты должен помнить ее милое лицо, чувственный рот, ее пристально смотрящие близорукие глаза, ее вид маленькой пухленькой наседки, которая переживает за своих цыплят. Но тебе не понять, что она значит для меня и для нашей обыденной жизни. Эти проворные пальцы! Сочувственные мысли! Сколько я ее помню, она всегда представляла собой причудливую смесь домохозяйки и книгочея, основу которых составляет хорошо воспитанная и высокодуховная дама. Она всегда остается дамой – торгуется ли с мясником, отчитывает ли нерадивую служанку, помешивает ли овсянку. Я так и вижу ее с болтушкой в одной руке и «Альманахом двух миров» в другой в пяти сантиметрах от ее милого носика. Он всегда был ее любимым чтивом, и я не могу представить ее без томика в коричнево-желтой обложке.
Моя мама – очень начитанная женщина, она следит за новинками как французской, так и английской литературы, и часами может говорить о братьях Гонкурах, Флобере и Готье. Однако она всегда занята работой, и откуда она набирается знаний – для меня загадка. Она читает, когда вяжет, читает, когда делает уборку, она даже читает, когда кормит своих детей. У нас есть шутка на ее счет: на самом интересном месте она вылила ложку молока с хлопьями в ухо моей сестренке, когда та в критический момент повернула голову. Руки у нее заскорузли от работы, но где ты видел бездельницу, которая так много прочитала?
Еще есть ее семейная гордость. В жизни мамы она играет огромную роль. Ты знаешь, как мало я придаю значения подобным вещам. Если титул «эсквайр» раз и навсегда исчезнет из моей фамилии, мне от этого станет только легче. Но клянусь честью, используя ее любимое присловье, ей об этом говорить не следует. По линии Пакенгемов (она из них) семейство может похвастаться некими выдающимися личностями (это по прямой линии), но если пойти по ответвлениям, то нет на земле такого монарха, который не был бы связан с их огромным генеалогическим древом. Плантагенеты роднились с нами не однажды, не дважды, а трижды, герцоги Бретонские стремились к союзу с нами, а Перси Нортумберлендские переплетались с нами на протяжении всей нашей славной истории. В детстве мама просвещала меня по этому предмету с каминной щеткой в одной руке и горстью золы в другой, облеченной в перчатку, а я сидел, болтал ногами в коротких штанишках и раздувался от гордости, пока курточка на мне не натягивалась, как оболочка на сосиске, и созерцал пучину, отделявшую меня от других мальчишек, болтавших ногами сидя на столе. И по сей день если я сделаю что-то заслуживающее маминого одобрения, она радостно говорит лишь то, что я истинный Пакенгем, а если я схожу с пути истинного, она со вздохом говорит, что есть во мне черты, унаследованные от Монро.
У нее широкие взгляды, она чрезвычайно практична в повседневной жизни, хотя ее иногда одолевает романтизм. Помню, как она приехала на узловую станцию, через которую проезжал мой поезд, чтобы повидаться со мной после полугодовой разлуки. Мы поговорили пять минут, я высунул голову из окна вагона. «Носи фланелевое белье, мальчик мой дорогой, и не верь в вечное наказание» – таков был ее последний совет, прежде чем поезд тронулся. Чтобы довершить ее портрет, мне не надо тебе говорить, поскольку ты ее видел, что она выглядит молодо и очень миловидно для матери большого семейства. На днях она сидела в вагоне, а я стоял на платформе. «Вашему мужу лучше бы подняться, иначе мы уедем без него», – сказал кондуктор. Когда мы отъехали от станции, мама судорожно шарила по карманам, и я знал, что она искала шиллинг.
Ах, какой же я болтун! И все ради одного предложения, что я не пробыл бы дома полгода, если бы не общество и не сочувствие мамы.
Так вот, теперь я хочу рассказать тебе о переделке, в которую я угодил. Полагаю, мне бы следовало огорчиться, но хоть убей, я не могу не смеяться. Я рассказал тебе о себе почти все, а сейчас поведаю о том, что произошло буквально на прошлой неделе. Даже тебе мне нельзя называть имен из-за проклятия Эрнульфа, которое включает в себя сорок восемь малых напастей, которые падут на голову мужчины, поцеловавшего женщину и рассказавшего об этом.
Так вот, тебе надо знать, что в пределах нашего города живут две дамы, мать и дочь, которых я назову миссис и мисс Лора Эндрюс. Они обе пациентки отца и в известной степени сделались подругами нашего дома. Мать – валлийка очаровательной наружности и благородных манер, истовая англиканка. Дочь немного повыше матери, но в остальном они удивительно похожи. Матери тридцать шесть, дочери восемнадцать, обе они чрезвычайно очаровательны. Если бы мне пришлось выбирать, то, между нами говоря, мать привлекала меня больше, поскольку я полностью придерживаюсь мнения Бальзака о женщинах за тридцать. Однако судьба распорядилась совершенно иначе.
Впервые нас с Лорой сблизило возвращение с танцев. Ты знаешь, как легко и внезапно происходят подобные вещи, начинаясь как жеманное заигрывание и заканчиваясь чем-то большим, чем дружба. Ты пожимаешь тонкую руку, под которую ведешь, пытаешься стиснуть затянутую в перчатку ладонь и до глупости долго желаешь спокойной ночи у двери. Это невинно и очень интересно, когда любовь расправляет крылышки. Она продолжит свой долгий полет позже, когда наберется опыта. Между нами никогда не вставал вопрос о серьезных отношениях, и не было и намека на обиды. Она знала, что я бедняк без средств и перспектив, а я знал, что слово матери для нее закон, и ее жизненный путь уже предопределен. Однако мы обменивались признаниями, иногда назначали свидания и встречались, пытались сделать свою жизнь ярче, не омрачая чужой. Я вижу, как ты качаешь головой и рычишь, что подобает благополучному семьянину вроде тебя, заявляя, что такие отношения очень опасны. Они опасны, дорогой мой, но нам было все равно: ей по невинности, а мне – по легкомыслию, поскольку с самого начала вся вина лежала на мне.
Ну, вот как обстояли дела, когда однажды на прошлой неделе отцу принесли записку, что слуга миссис Эндрюс заболел, где просили его тотчас же прийти. У старика случился приступ подагры, так что я надел халат и отправился по вызову, думая, что, возможно, удастся совместить приятное с полезным и перемолвиться парой слов с Лорой. Конечно же, проходя по посыпанной гравием изгибавшейся дорожке, я заглянул в окно гостиной и увидел, как она рисует, повернувшись спиной к свету. Было ясно, что она меня не услышала. Дверь в коридор была приоткрыта, когда я ее распахнул, там никого не оказалось. Меня вдруг одолело озорство. Я очень медленно открыл дверь в гостиную, вошел на цыпочках, тихонько прокрался дальше, нагнулся и поцеловал художницу в шею. Она с криком обернулась, и это оказалась мать.
Не знаю, Берти, доводилось ли тебе попадать в столь скверные переделки. Я попал, как кур в ощип. Помню, как я улыбался, когда скользил по ковру навстречу жуткому позору. В тот вечер я больше ни разу не улыбнулся. Когда я об этом думаю, кровь бросается мне в лицо.
Он обезумел от злости и швырнул перчатки под стол.
– Ей-богу, Монро! – вскричал он. – Если ты не снимешь перчатки, я тебя достану, в перчатках ты или нет!
– Выпей содовой, – сказал я.
Он презрительно взглянул на меня.
– Ты меня боишься, Монро, – прорычал он. – Вот в чем все дело.
Дело стало заходить слишком далеко, Берти. Я понимал всю абсурдность ситуации. Я думал, что смогу одержать над ним верх, но в то же время знал, что наши силы примерно равны, и мы оба можем сильно поколотить друг дружку безо всякой пользы. И все-таки я снял перчатки, решив, что так благоразумнее всего. Если Каллингворт подумает, что у него есть надо мной преимущество, то потом я могу об этом пожалеть.
Но судьбе было угодно задавить нашу свару в самом зародыше. В ту секунду в комнату вошла миссис Каллингворт и взвизгнула, увидев мужа. У него из носа сочилась кровь и стекала на подбородок, так что я не удивился ее реакции.
– Джеймс! – вскрикнула она и повернулась ко мне. – Что все это значит, мистер Монро?
Ты бы видел, какой ненавистью пылали ее кроткие глаза. Я ощутил безумный порыв подхватить ее на руки и поцеловать.
– Мы всего лишь немного побоксировали, миссис Каллингворт, – ответил я. – Ваш муж жаловался, что ему не удается заняться физическими упражнениями.
– Все нормально, Гетти, – сказал он, снова надевая сюртук. – Не глупи. Слуги уже улеглись спать? Ну, тогда пронеси мне в тазике воды из кухни. Садись, Монро, и закуривай трубку. Мне надо об очень многом с тобой поговорить.
На этом все и кончилось, и остаток вечера прошел спокойно. Но все-таки его миниатюрная жена всегда будет видеть во мне негодяя и забияку. Что же до Каллингворта… Довольно трудно сказать, что он думает об этом деле.
Когда я проснулся на следующее утро, он оказался у меня в комнате и являл собою довольно забавное зрелище. Его халат лежал на стуле, а сам он голышом выжимал двадцатикилограммовую гирю. Природа не наградила его лицо ни симметрией, ни приятным выражением, но фигура у него была, как у греческой статуи. Я с улыбкой заметил, что оба его глаза украшают синяки. Настала его очередь улыбнуться, когда я сел на кровати и обнаружил, что мое ухо по форме и на ощупь напоминает мухомор. Однако в то утро Каллингворт вел себя чрезвычайно дружелюбно и болтал в самой добродушной манере.
В тот день мне надо было вернуться домой, к отцу, но до отъезда я провел пару часов с Каллингвортом у него в кабинете. Он пребывал в прекрасном настроении и выдавал сотни хитроумных способов, какими я мог бы ему помочь. Его главной целью было, чтобы его имя попало в газеты. По его мнению, это являлось залогом успеха. Мне казалось, что он путает причину со следствием, но с ним не спорил. Я до боли в боку смеялся над его замысловатыми предложениями, которыми он буквально фонтанировал. Я должен был лежать без чувств на обочине дороги, чтобы милосердная толпа отнесла меня к нему, после чего лакей бросится разносить заметку по газетам. Однако существовала вероятность, что меня отнесут к врачу-конкуренту на другой стороне улицы. В разных ипостасях я должен был симулировать припадки у двери Каллингворта, чтобы дать газетчикам очередной повод обмолвиться о нем. Потом я должен был умереть, испустить дух, а вся Шотландия должна была трубить о том, как доктор Каллингворт из Авонмута воскресил меня. Его изобретательный ум придумывал сотни вариаций на одну тему, а нависавшее над ним банкротство поблекло в его голове под натиском несерьезных и вздорных задумок.
Но его веселость тотчас улетучивалась, он начинал скрежетать зубами и быстро расхаживать по комнате, рассыпая ругательства, когда видел пациента, поднимавшегося по ступенькам к двери Скарсдейла, его соседа напротив. Скарсдейл имел довольно неплохую практику и принимал на дому с десяти до двенадцати утра, так что я почти привык к тому, как Каллингворт вскакивал со стула и с проклятиями бросался к окну. Он сразу же ставил диагнозы и прикидывал гонорары за лечение, пока не начинал заговариваться.
– Вот! – внезапно вскрикивал он. – Видишь хромающего мужчину? Он приходит каждое утро. Смещение мениска в коленном суставе, там на три месяца работы. Он приносит тридцать пять шиллингов в неделю. А вот еще! Пусть меня повесят, если это снова не женщина в инвалидной коляске с ревматическим артритом. Она прямо вся тюленья кожа и молочная кислота. Просто тошнит от вида того, как валят к этому врачу. А что за врач! Ты его не видел, и тем лучше для тебя. Не знаю, чему ты, черт подери, смеешься, Монро. Не вижу, с чего бы мне веселиться.
Та поездка в Авонмут продлилась недолго, но мне кажется, что я запомню ее на всю жизнь. Видит Бог, что этот предмет тебя изрядно утомил, но когда я начал такой подробный рассказ, меня так и подмывало продолжать. Все закончилось с моим возвращением тем же днем, Каллингворт заверял меня, что соберет вместе своих кредиторов, как я ему и советовал, и сообщит о результатах через несколько дней. Миссис Каллингворт едва удосужилась подать мне руку, когда я с ней прощался, но от этого она понравилась мне еще больше. В Каллингворте наверняка много достоинств, иначе он не смог бы полностью завоевать любовь и доверие этой женщины. Возможно, где-то на заднем плане таится совсем другой Каллингворт – более мягкий и нежный, который может любить и пробуждать любовь. Если так оно и есть, то я и близко с ним незнаком. Возможно, я лишь постукивал пальцами по скорлупе. Кто знает? Если уж на то пошло, весьма вероятно, что он никогда не сталкивался с настоящим Джонни Монро. Но ты-то меня знаешь, Берти, и мне кажется, что на этот раз он порядком тебе надоел, а своими снисходительными ответами ты лишь поощряешь его словесные излишества. Что ж, написал я ровно столько, сколько почтовое ведомство сможет отправить за пять пенсов, так что закончу лишь тем, что отмечу – прошло две недели, а новостей из Авонмута нет, что совсем меня не удивляет. Если я что-то и узнаю, что весьма сомнительно, можешь быть уверен, что я закончу эту долгую историю.
Письмо третье
Дома, 15 октября 1881 года
Безо всякой образности признаюсь, что мне становится очень стыдно, когда я думаю о тебе, Берти. Я посылаю тебе два невероятно длинных письма, отягощенных, насколько я помню, совершенно ненужными подробностями. Затем, несмотря на твои добрые ответы и участливость, которых я вряд ли заслуживаю, я полностью забываю о тебе больше чем на полгода. Клянусь этим пером, такое больше не повторится, и этим письмом я, возможно, заполню образовавшийся пробел и посвящу тебя в свои текущие дела, к которым лишь ты из всего человечества проявляешь интерес.
Начну с замечания, что хочу тебя заверить: все, что ты сказал в своем последнем письме касательно религии привлекло мое самое пристальное внимание. Жаль, что его у меня нет для сверки (я дал почитать его Чарли), но, по-моему, я помню его содержание. Общеизвестно, как ты говоришь, что неверующий может быть таким же фанатиком, как и глубоко верующий человек, и что человек может быть очень догматичен в своем ниспровержении догм. Подобные люди суть настоящие враги свободной мысли. И если что-то сможет убедить меня предать свои принципы, то это, например, будут дурацкие кощунственные картинки, публикуемые в агностических изданиях.
Но у каждого движения существует целая толпа последователей и подпевал, склонных к разброду и шатаниям. Мы напоминаем комету, яркую в голове и рассеивающуюся в облако газа в хвосте. Однако каждый человек может говорить за себя, и я не чувствую, что твое обвинение относится ко мне. Я фанатичен лишь в борьбе с фанатизмом, и мне это представляется столь же законным, как и насилие в борьбе с насилием. Когда принимаешь во внимание, какие последствия имели для мировой истории извращения религиозных чувств (жуткие войны христиан и мусульман, католиков и протестантов, казни, пытки, междоусобная вражда, мелочные склоки, при этом все верования в равной степени измазаны кровью), то остается лишь поражаться, как совокупный глас человечества не поместил фанатизм на первое место в списке смертных грехов. И, конечно же, банально заявлять, что ни оспа, ни чума не принесли человечеству столько горя и страданий.
Меня нельзя причислить к фанатикам, дорогой мой, потому как я от чистого сердца говорю, что уважаю каждого доброго католика и каждого доброго протестанта, и признаю, что каждое из этих вероисповеданий является мощным орудием в руках управляющего всем непостижимого Провидения. Как в ходе истории человек обнаруживает, что самые далеко идущие и выдающиеся последствия могут происходить из преступления, так и в религии, хотя вера может основываться на совершенно несуразной концепции Создателя и Его деяний, она тем не менее может оказаться наиболее подходящей для людей и времени, когда была принята. Но если она правильна для тех, кто интеллектуально удовольствуется ее принятием, это также приемлемо для тех, кто не довольствуется ее принятием, кто против нее протестует, пока в результате этого процесса все человечество постепенно подвергается брожению и продвигается чуть вперед по пути поступательного развития.
Католицизм более глубок и обстоятелен. Протестантизм более приземлен и рационален. Протестантизм приспосабливается к современной цивилизации, католицизм надеется, что цивилизация приспособится к нему. Люди перемещаются с одной большой ветви на другую и считают, что произвели огромную перемену, в то время как ствол под ними прогнил, и обе ветви в их теперешней форме рано или поздно будут вовлечены в общую погибель. Движение человеческой мысли, пусть и медленное, по-прежнему направлено в сторону правды, и различные религии (каждая прекрасна в свое время), от которых человек избавляется по мере продвижения вперед, служат своего рода буйками, сбрасываемыми с борта корабля, призванными указывать скорость и направление прогресса.
Но как мне узнать, что есть истина, спросишь ты? Никак. Но я довольно неплохо знаю, что не есть истина. И это, разумеется, немало. Неверно, что великий главный Ум, спланировавший все на свете, способен на зависть, месть, жестокость и несправедливость. Это человеческие качества, и книга, приписывающая их Бесконечности, наверняка является человеческим творением. Неверно, что законы природы были произвольно нарушены, что змеи разговаривали, что женщины превращались в соль, что скипетром добывалась вода из камней. Тебе нужно честно признать, что если бы подобные высказывания впервые преподносились нам взрослым, то мы бы улыбнулись. Неверно, что источник здравого смысла должен наказать народ за незначительный проступок, совершенный давно умершим человеком, а потом усугубить вопиющую несправедливость, обрушив возмездие на одного невинного козла отпущения. Разве ты не видишь, что такая концепция лишена справедливости и логики, не говоря уже о милосердии? Неужели не видишь, Берти? Как же можно ослепнуть до такой степени! Отвлекись на мгновение от подробностей и вглядись в ключевую идею господствующей веры. Разве ее общая концепция соответствует бесконечной мудрости и милосердию? Если нет, то что станется с догмами, символами, общей системой, построенной на песке? Мужайся, друг мой! В нужный момент все будет отброшено в сторону, как человек, чьи силы возрастают, откладывает костыль, который верно служил ему в дни болезни. Но на этом перемены не кончатся. Его хромота станет походкой, которая превратится в бег. Окончания переменам нет, его не может быть, поскольку вопрос относится к бесконечности. Все это, сегодня кажущееся тебе слишком заумным, через тысячу лет станет выглядеть реакционным и консервативным.
Поскольку я коснулся этой темы, можно сказать кое-что еще без боязни тебе наскучить? Ты говоришь, что критика вроде моей разрушительна, и мне нечего предложить взамен низвергнутого. Это не совсем верно. Мне думается, что нам доступны некие элементарные истины, не требующие веры для их принятия, и этих истин достаточно для предоставления нам практической религии, в которой достаточно рассудочности, чтобы привлечь к себе думающих людей, а не отвратить их.
Когда все мы вернемся к элементарным и доказуемым фактам, появится надежда прекратить мелкие дрязги между верованиями и включить всю человеческую семью в одну всеобъемлющую систему мысли.
Когда я впервые вышел из веры, в которой был воспитан, то, конечно, некоторое время чувствовал себя так, будто бы лишился опоры в жизни. Не будет преувеличением сказать, что я ощущал себя жалким и погруженным в полную духовную тьму. Для этого юность слишком полна всяких действий. Я осознавал какое-то смутное беспокойство, постоянное желание тишины, пустоту и одеревенелость, которых не замечал раньше. Я настолько отождествлял религию с Библией, что не мог их разделить. Когда фундамент оказался фальшивым, все сооружение с грохотом рухнуло. И тогда на помощь мне пришел добрый старый Карлейль[3 - Томас Карлейль (1795–1881) – английский писатель, философ и историк. В своих работах выдвинул «теорию героев», считая, что выдающиеся исторические личности («великие люди») определяют историю и двигают вперед человечество.], и при помощи его размышлений и своих раздумий я построил свой небольшой домик, в котором с тех пор нахожу покой и который даже послужил убежищем для парочки друзей.
Наипервейшее и главное, что следует хорошенько усвоить – это то, что существование Создателя и указания на его свойства никоим образом не зависят от еврейских пророков и поэтов, а также от бумаги и типографской краски. Напротив, все подобные попытки осознать Его лишь принижают Его, низводя Бесконечность до узких рамок человеческой мысли, причем в то время, когда мысль была в общем менее духовна, нежели теперь. Даже самый материалистичный из современных умов дрогнет при попытке описать Божество приказывающим проводить массовые казни и рубить властителей на части на алтарях.
Затем, подготовив свой ум к более высокой (пусть и, возможно, более расплывчатой) идее Божества, переходи к изучению Его в его делах, которые нельзя подделать или исказить. Природа – вот истинное откровение Божества человеку. Ближайшее зеленое поле есть вдохновенная страница, на которой можно прочитать все, что тебе нужно знать.
Признаюсь, что никогда не мог понять позицию атеиста. На самом деле я пришел к тому, что не верю в его существование и рассматриваю его слова лишь как форму теологического осуждения. Атеизм может представлять собой временное состояние, преходящую фазу умственного развития или дерзкую реакцию на антропоморфический идеал. Однако я не могу представить, что человек может продолжать наблюдать за природой и отрицать, что действуют законы, демонстрирующие интеллект и силу. Само существование мира несет в себе доказательство существования его создателя, как стол гарантирует существование плотника. В соответствии с этим человек может сформировать импонирующую ему концепцию Творца, но он не может быть атеистом.
Мудрость, мощь и направленные на достижение цели средства вписаны в структуру природы. Каких тогда доказательств мы хотим от книги? Если человек, наблюдающий мириады звезд и считающий, что они и их бесчисленные спутники размеренно движутся по небу, не пересекаясь орбитами, если, говорю я, человек, видит это и не может понять свойств Создателя без книги Иова, то его взгляд на мир находится за пределами моего понимания. И не только в больших явлениях мы видим вездесущую заботу некой разумной силы. Для нее нет ничего слишком малого. Мы видим, как крохотный хоботок насекомого аккуратно внедряется в чашечку цветка, как микроскопический волосок и желёзка исполняют свои определенные функции. Какая разница, плод они творения или результат эволюции? Нам на самом деле известно, что они суть результат эволюции, но это лишь определяет закон, но не объясняет его.
Но если эта сила позаботилась о пчеле, снабдив ее медовым желудочком и хоботками для сбора нектара, об обычном семени, снабдив его приспособлениями для попадания в плодородную почву, то возможно ли, что мы, венец творения, оказались обойденными? Такое невообразимо. Эта мысль не соотносится со структурой творения, как мы ее видим. Повторяю, что вера не нужна, чтобы обрести уверенность в существовании всевидящего Провидения.
И с подобной уверенностью у нас, конечно, есть все необходимое для элементарной религии. Что бы ни произошло после смерти, в этой жизни наши обязанности четко определены, и этики всех верований пока что сходятся в этом, так что вряд ли могут существовать какие-то расхождения во мнениях. Последняя реформация упростила католицизм. Грядущая реформация упростит протестантизм. А когда мир созреет, наступит еще одна реформация, которая его упростит. Постоянно совершенствующийся разум даст нам постоянно расширяющую свои границы веру. Разве не отрадно думать, что эволюция еще продолжает действовать, что если предок наш – человекообразная обезьяна, то потомками нашими могут быть архангелы?
Ну, вообще-то я не намеревался вываливать на тебя весь этот ворох информации. Думал, что смогу обрисовать свою позицию на страничке или около того. Но сам видишь, как одно влечет за собой другое. Даже теперь я многое оставляю невысказанным. Я с большой долей уверенности представляю, что именно ты скажешь. «Если ты выводишь существование благого Провидения из всего хорошего в природе, то как быть со всем плохим?» Вот что ты скажешь. Достаточно того, что я склонен отрицать существование зла. По этому поводу я больше не скажу ни слова, но если ты сам вернешься к этой теме, то думай и решай сам.
Ты помнишь, что в последнем письме я рассказывал, как только что вернулся из Авонмута от Каллингвортов, и что он обещал известить меня, какие шаги предпримет для умиротворения кредиторов. Как я и ожидал, я не получил от него ни словечка. Однако окольными путями я узнал кое-какие новости о случившемся. Из вторых рук с большой степенью преувеличения мне стало известно, что Каллингворт поступил именно так, как я ему советовал: созвал кредиторов и обратился к ним с пространным заявлением касательно своего положения. Эти добрые люди были столь тронуты нарисованной им картиной достойного человека, борющегося с превратностями судьбы, что некоторые из них заплакали, и все не только единогласно решили отсрочить уплату долга, но и даже заговорили о подписке, чтобы помочь Каллингворту поправить дела. Как я понимаю, он уехал из Авонмута, однако никто понятия не имеет, что с ним сталось. Общее мнение таково, что он отправился в Англию. Он странный человек, но я желаю ему удачи, где бы он ни был.
Когда я вернулся домой, то снова погрузился в рутину отцовской практики, помогая ему, пока что-нибудь не наклюнется. Мне пришлось ждать полгода – долгие и тягучие полгода. Понимаешь, я не могу просить у отца денег или, по крайней мере, не могу заставить себя взять лишний пенни из его накоплений, поскольку знаю, насколько ему трудно обеспечивать нам крышу над головой и платить за лошадь и рессорную двуколку, которая нужна ему для работы так же, как утюг портному. А сборщик налогов так и горазд выжать из нас пару гиней под предлогом того, что это роскошь! Мы продержимся, и я не сделаю его беднее хотя бы на фунт. Но ты сам понимаешь, Берти, что для мужчины моего возраста унизительно ходить с пустыми карманами. Это очень на меня давит. Бедняк может сделать мне доброе дело, а я покажусь ему скрягой. Могу захотеть подарить девушке цветы и должен буду выглядеть непочтительным. Не знаю, почему я должен этого стыдиться, поскольку в этом не моя вина, и надеюсь, что никому не покажу, что мне стыдно. Но тебе, дорогой мой Берти, охотно признаюсь, что это ужасно задевает мое чувство собственного достоинства.
Я часто удивляюсь, почему у писательской братии не доходят руки описать внутренний мир молодого человека от поры отрочества до времени его вставания на ноги. Мужчины очень любят анализировать чувства своих героинь, о которых им вряд ли что-нибудь известно, в то время как им почти нечего сказать о внутреннем мире их героев, через переживания которых они прошли сами. Я бы за это взялся, но понадобится фантазия, а у меня с воображением всегда было плохо. Но я ясно помню то, что пережил сам. В то время я думал (как и все остальные), что это был уникальный опыт, но после того, как я услышал признания пациентов отца, я убедился, что это общий удел. Ужасная сковывающая застенчивость, чередующаяся случайными абсурдными вспышками дерзости, являющимися реакцией на нее, тоска по крепкой дружбе, страдания по поводу воображаемых презрительных выпадов, необычные сексуальные переживания, смертельные страхи касательно несуществующих болезней, смутные чувства, вызываемые всеми женщинами, и пугливая дрожь в присутствии некоторых из них, агрессивность, вызванная боязнью перепугаться, внезапные наплывы меланхолии, глубокое недоверие к себе. Смею биться об заклад, Берти, что ты через все это прошел, как и я, и первый же восемнадцатилетний юноша, которого ты увидишь из окна, тоже страдает от всего этого.
Однако я отклоняюсь от того факта, что полгода сижу дома и порядком от этого устал. Я рад новому повороту событий, о котором придется тебе рассказать. Здешняя практика, хотя и не очень выгодная, полна вызовов по три шиллинга и шесть пенсов и наблюдением за состоянием заключенных с платой в одну гинею, так что у нас с отцом масса дел. Ты знаешь, как я им восхищаюсь, однако боюсь, что интеллектуальной общности у нас с ним очень мало. Он, похоже, думает, что мои взгляды на религию и политику, идущие из глубины души, зародились у меня в результате равнодушия или бравады. Поэтому я перестал говорить с ним об этих животрепещущих предметах, и хотя мы делаем вид, что этих тем не существует, мы оба знаем, что между нами существует некая преграда. Что же до моей матери… ах, она заслуживает отдельного пассажа.
Ты же знаком с нею, Берти! Ты должен помнить ее милое лицо, чувственный рот, ее пристально смотрящие близорукие глаза, ее вид маленькой пухленькой наседки, которая переживает за своих цыплят. Но тебе не понять, что она значит для меня и для нашей обыденной жизни. Эти проворные пальцы! Сочувственные мысли! Сколько я ее помню, она всегда представляла собой причудливую смесь домохозяйки и книгочея, основу которых составляет хорошо воспитанная и высокодуховная дама. Она всегда остается дамой – торгуется ли с мясником, отчитывает ли нерадивую служанку, помешивает ли овсянку. Я так и вижу ее с болтушкой в одной руке и «Альманахом двух миров» в другой в пяти сантиметрах от ее милого носика. Он всегда был ее любимым чтивом, и я не могу представить ее без томика в коричнево-желтой обложке.
Моя мама – очень начитанная женщина, она следит за новинками как французской, так и английской литературы, и часами может говорить о братьях Гонкурах, Флобере и Готье. Однако она всегда занята работой, и откуда она набирается знаний – для меня загадка. Она читает, когда вяжет, читает, когда делает уборку, она даже читает, когда кормит своих детей. У нас есть шутка на ее счет: на самом интересном месте она вылила ложку молока с хлопьями в ухо моей сестренке, когда та в критический момент повернула голову. Руки у нее заскорузли от работы, но где ты видел бездельницу, которая так много прочитала?
Еще есть ее семейная гордость. В жизни мамы она играет огромную роль. Ты знаешь, как мало я придаю значения подобным вещам. Если титул «эсквайр» раз и навсегда исчезнет из моей фамилии, мне от этого станет только легче. Но клянусь честью, используя ее любимое присловье, ей об этом говорить не следует. По линии Пакенгемов (она из них) семейство может похвастаться некими выдающимися личностями (это по прямой линии), но если пойти по ответвлениям, то нет на земле такого монарха, который не был бы связан с их огромным генеалогическим древом. Плантагенеты роднились с нами не однажды, не дважды, а трижды, герцоги Бретонские стремились к союзу с нами, а Перси Нортумберлендские переплетались с нами на протяжении всей нашей славной истории. В детстве мама просвещала меня по этому предмету с каминной щеткой в одной руке и горстью золы в другой, облеченной в перчатку, а я сидел, болтал ногами в коротких штанишках и раздувался от гордости, пока курточка на мне не натягивалась, как оболочка на сосиске, и созерцал пучину, отделявшую меня от других мальчишек, болтавших ногами сидя на столе. И по сей день если я сделаю что-то заслуживающее маминого одобрения, она радостно говорит лишь то, что я истинный Пакенгем, а если я схожу с пути истинного, она со вздохом говорит, что есть во мне черты, унаследованные от Монро.
У нее широкие взгляды, она чрезвычайно практична в повседневной жизни, хотя ее иногда одолевает романтизм. Помню, как она приехала на узловую станцию, через которую проезжал мой поезд, чтобы повидаться со мной после полугодовой разлуки. Мы поговорили пять минут, я высунул голову из окна вагона. «Носи фланелевое белье, мальчик мой дорогой, и не верь в вечное наказание» – таков был ее последний совет, прежде чем поезд тронулся. Чтобы довершить ее портрет, мне не надо тебе говорить, поскольку ты ее видел, что она выглядит молодо и очень миловидно для матери большого семейства. На днях она сидела в вагоне, а я стоял на платформе. «Вашему мужу лучше бы подняться, иначе мы уедем без него», – сказал кондуктор. Когда мы отъехали от станции, мама судорожно шарила по карманам, и я знал, что она искала шиллинг.
Ах, какой же я болтун! И все ради одного предложения, что я не пробыл бы дома полгода, если бы не общество и не сочувствие мамы.
Так вот, теперь я хочу рассказать тебе о переделке, в которую я угодил. Полагаю, мне бы следовало огорчиться, но хоть убей, я не могу не смеяться. Я рассказал тебе о себе почти все, а сейчас поведаю о том, что произошло буквально на прошлой неделе. Даже тебе мне нельзя называть имен из-за проклятия Эрнульфа, которое включает в себя сорок восемь малых напастей, которые падут на голову мужчины, поцеловавшего женщину и рассказавшего об этом.
Так вот, тебе надо знать, что в пределах нашего города живут две дамы, мать и дочь, которых я назову миссис и мисс Лора Эндрюс. Они обе пациентки отца и в известной степени сделались подругами нашего дома. Мать – валлийка очаровательной наружности и благородных манер, истовая англиканка. Дочь немного повыше матери, но в остальном они удивительно похожи. Матери тридцать шесть, дочери восемнадцать, обе они чрезвычайно очаровательны. Если бы мне пришлось выбирать, то, между нами говоря, мать привлекала меня больше, поскольку я полностью придерживаюсь мнения Бальзака о женщинах за тридцать. Однако судьба распорядилась совершенно иначе.
Впервые нас с Лорой сблизило возвращение с танцев. Ты знаешь, как легко и внезапно происходят подобные вещи, начинаясь как жеманное заигрывание и заканчиваясь чем-то большим, чем дружба. Ты пожимаешь тонкую руку, под которую ведешь, пытаешься стиснуть затянутую в перчатку ладонь и до глупости долго желаешь спокойной ночи у двери. Это невинно и очень интересно, когда любовь расправляет крылышки. Она продолжит свой долгий полет позже, когда наберется опыта. Между нами никогда не вставал вопрос о серьезных отношениях, и не было и намека на обиды. Она знала, что я бедняк без средств и перспектив, а я знал, что слово матери для нее закон, и ее жизненный путь уже предопределен. Однако мы обменивались признаниями, иногда назначали свидания и встречались, пытались сделать свою жизнь ярче, не омрачая чужой. Я вижу, как ты качаешь головой и рычишь, что подобает благополучному семьянину вроде тебя, заявляя, что такие отношения очень опасны. Они опасны, дорогой мой, но нам было все равно: ей по невинности, а мне – по легкомыслию, поскольку с самого начала вся вина лежала на мне.
Ну, вот как обстояли дела, когда однажды на прошлой неделе отцу принесли записку, что слуга миссис Эндрюс заболел, где просили его тотчас же прийти. У старика случился приступ подагры, так что я надел халат и отправился по вызову, думая, что, возможно, удастся совместить приятное с полезным и перемолвиться парой слов с Лорой. Конечно же, проходя по посыпанной гравием изгибавшейся дорожке, я заглянул в окно гостиной и увидел, как она рисует, повернувшись спиной к свету. Было ясно, что она меня не услышала. Дверь в коридор была приоткрыта, когда я ее распахнул, там никого не оказалось. Меня вдруг одолело озорство. Я очень медленно открыл дверь в гостиную, вошел на цыпочках, тихонько прокрался дальше, нагнулся и поцеловал художницу в шею. Она с криком обернулась, и это оказалась мать.
Не знаю, Берти, доводилось ли тебе попадать в столь скверные переделки. Я попал, как кур в ощип. Помню, как я улыбался, когда скользил по ковру навстречу жуткому позору. В тот вечер я больше ни разу не улыбнулся. Когда я об этом думаю, кровь бросается мне в лицо.