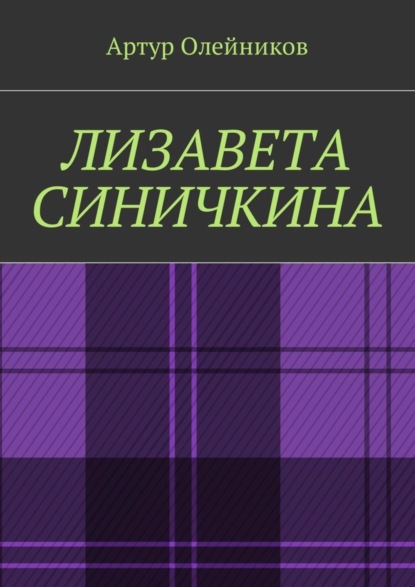По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лизавета Синичкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никого не слушай сердце, собирай мгновенья счастья по крупицам, чтобы знать, что в жизни не одни только беды, когда эти беды обрушиваются на наши головы. Тем более что в жизни невесты этого счастья через мгновенье не стало. Мимолетное счастье надолго исчезнет из Галиной жизни и дорого попросит за то, что гостило.
Крупная некрасивая Галя напугала Зарифа, но он не подал вида, но вдруг так содрогнулся внутри, что это почувствовал старший брат. Муста сам оторопел. Он сам воочию никогда не видел невесты. Отец Фирдавси говорил, что красавица, лучше и мечтать нельзя. Мусте сделалось стыдно и еще больше тяжело. Муста лучше других знал характер и обидчивость младшего брата и задолго до того, как все проявилось, понял, что нажил себе страшного врага в лице собственного брата, который его возненавидит, станет мстить и никогда его не простит. Он отвел от Зарифа глаза и подошел к невесте за стол, где, кроме дружки, рядом с невестой прямо на стуле для жениха сидел мальчик тринадцати лет, крестник Гаврилы Прокопьевича, Гриша Кузнецов. Всю жизнь промечтав о сыне, отец невесты не чаял души в крестнике, как в родном, так что завидная роль продавать невесту досталась маленькому Грише. Курчавый белокурый Гриша сидел и чувствовал себя все одно, что хитрый продавец картошки во время зимы, когда вдруг у всех разом померзла от мороза картошка, а этот сберег и теперь сидел среди ведер с розовой уцелевшей картошкой, как король на золоте. Цена, как не кусайся, а не отобьет у покупателя охоту. Так вот и наш продавец про себя решил, что меньше, чем за десять рублей невесту не продаст и место жениху не освободит. Но не знал Гриша, что сегодня ему светит куда больше куш, чем десять рублей.
Муста сердцем чувствовал удар младшего брата и как Зариф смотрел на него и, возможно, даже проклинал. Мусте хотелось скрыться, если можно, провалится под землю, хотелось со всем скорее покончить. Муста машинально залез во внутренний карман, где хранились все деньги, что он собирался подарить молодым за свадебным столом, и высыпал на стол перед Гришей «гору» сторублевок – три тысячи рублей.
Все ахнули.
Маленький Гриша испугался. Ни разу в жизни не видевший столько денег, мальчик ошалело смотрел на купюры, и какие только мысли не крутились в его белокурой головке, что дядя пошутил, а если не шутит, то все равно заберут. А еще непременно влетит, если он прямо сейчас возьмет и все это богатство попрячет по карманам.
– Да, дела! – громко выдохнул кто-то.
Все зашептались. Проскурина подскочила к Мусте и стала просить и дергать его за рукав:
– Забери! Ты что, такие деньги. Забери, никто слова не скажет!
Но Муста как будто ничего не слышал и с каким-то оправдывающимся взглядом смотрел на жениха. Зариф, бледный, воспаленными глазами переводил взгляд то с денег на брата, то с брата на невесту, и Мусте казалось, что напряжение между ним и Зарифом было такой силы, что еще самую малость, и весь дом мог вспыхнуть или кто-нибудь из них лишится чувств и упадет в обморок. Муста не выдержал и первым опустил глаза, Зариф отвернулся и к всеобщему ужасу вдруг сделал шаг уйти. Но в дверях уперся головой в стену из гостей. Он замер, словно окаменел, не пытался растолкать гостей, остановился и заплакал.
Проскурина, смеясь, подбежала к деньгам и в громком смехе сводницы утонули слезы жениха, и никто не заметил, а у тех, у кого слезы навечно запечатлелись в памяти, даже не отдавая себе отчета, лишь только по велению сердца мысленно клялись жениху, что его тайна умрет вместе с ними.
– Ну и дружок, – выкрикивала Проскурина, – ну и шутник! И ловко одним взмахом сгребла со стола все, кроме одной купюры.
Взяла оставшуюся на столе сторублевку и отдала маленькому Грише.
– Вот тебе, на велосипед. Скажи дяде дружку спасибо.
– Спасибо, – отвечал радостно Гриша и прятал деньги, счастливый оттого, что теперь, наверное, точно не заберут, и в конечном итоге не все так плохо для него закончилось.
Гриша спрятал выкуп и уступил место жениху.
Проскурина со смехом и только ей присущей находчивостью и артистизмом продолжила спасать положение. Она подхватила под руку жениха и незаметно для него самого усадила вместе с невестой. И дом утонул в радостных возгласах.
Зариф был оглушен и смотрел на всех, как потерявшийся человек, ищущий спасения.
– Ошалел от счастья, – кричали гости.
Жених все никак не мог расстаться с букетом и подарить его по обычаю невесте.
– Ну, дает, – кричали мужики. Кто наливал жениху?!
– Вам бы только глаза залить, – отвечала Проскурина.
– От тебя, гляди, дождешься! – и пол и стены дрожали от смеха.
Нарядная Прасковья в зеленом длинном платье и модных бусах из крупного золотого янтаря ласково, по-матерински говорила жениху:
– Не слушай их, сынок. Не волнуйся, не волнуйся. Букет невесте подари.
Зариф смотрел на незнакомую женщину с таким добрым и светлым лицом, что каждый изгиб, каждая морщинка согревали сердце.
Зариф подал навесте букет из алых роз, и Галя робко, под замирание гостей брала цветы.
Бабы заплакали. Прасковья тоже не удержалась, сердце матери сжалось, и по щекам бежали самые дорогие для матери слезы.
– Подходите, мужики, – подзывал Гаврила Прокопьевич и трясущимися от волнения руками наливал водку гостям. – Закусывайте на дорожку, закусывайте, – угощал отец перед дорогой в загс.
Все последующие часы в загсе и во время свадьбы Зариф был как в тумане или, скорее, как во сне. Словно оглушенная от взрыва рыба, что всплывает со дна, и тогда делай с ней, что хочешь, Зариф, не оправившись от удара, шел, куда указывали, говорил, что просили. Принимал теперь уже с женою Галей поздравленья, стоял как в бреду, снова и снова подставляя в загсе щеку гостям. От непривычки у Зарифа зудел палец под обручальным кольцом. Во рту стоял приторный противный вкус теплого лимонада, что по обычаю давали пригубить молодым. И пока за свадебным столом Зариф не отправил в рот первый попавшийся кусок, мучился жаждой.
Брак регистрировали в Зернограде и после регистрации шли по главной улице города. Возлагали цветы к вечному огню. Фотографировались. А потом за свадебным столом неустанно заставляли целовать некрасивую невесту. И Зарифу казалось, что его кошмару теперь не будет конца.
Зариф пару раз пытался заглянуть старшему брату в глаза, но тот пытался не встречаться взглядами, говорил мало и совсем не улыбался в отличие от отца.
Фирдавси радовался, показывал желтые зубы, когда улыбался и одобрительно на все кивал головой.
Галя за весь день и вечер так и не решилась заговорить с мужем, который теперь по идее хоть и должен был быть для нее самым близким человеком, так и оставался незнакомцем. И самое болезненное впечатление, производимое на Галю, то, что Зариф ничего не делал, чтобы это изменилось. Внутренне Галя уже понимала, что это могло значить, и содрогалась. И чем ближе приближалась ночь, невесте все трудней и трудней становилось улыбаться гостям.
С приближением ночи Зариф сам вдруг вспомнил о брачной ночи, о том, что его оставят с Галей наедине, и стал бледным.
В десятом часу Старик Фирдавси встал из-за стола и закивал на гостей.
– Говорить хочет? – спрашивали друг друга гости и наливали в ожидании слов. А он все только кивал да кивал.
«О, черт лысый», – выругалась про себя подвыпившая Проскурина, и, толкнув в бок соседа, сказала вслух:
– Домой собирается.
– Да ведь рано еще! – удивлялся сосед.
– Принято у них так! – деловито отвечала Проскурина, хоть и знала, что ничего не принято, но была за ней слабость выставлять на показ свою «ученость» перед простым деревенским жителем, и Проскурина не упускала удобного случая. Притом, что очень любила деревню и никогда не променяла бы деревню на город.
Проскурина поднялась. Подарки уже давно были подарены, деньги посчитаны и хранились при ней. Денег подарили совсем немного, не считая тех самых, что Проскурина спасла, да еще рублей сто, не более. Деревенские все больше дарили вещами. Посуду было некуда составлять. Родной дядя Владимир Николаевич подарил пылесос. Родители невесты сказали, что дарят холодильник, и Григорий Николаевич уже мысленно откладывал все до копеечки, чтобы скорей исполнить обещанное и снять с сердца тяжелый для отца груз. Был еще палас от бабушки невесты и кое-что еще по мелочи.
– Проводим, гости, молодых, – сказала Проскурина.
Хорошо сказала, так, что никого не обидела, словно так было надо. Деревенские, приученные не перечить начальству, а Проскурина на свадьбе была вроде того председателя, стали разливать водку по стаканам, чтобы проводить молодых и на прощание выпросить поцелуй – двухсотый по счету.
Молодые поднялись из-за стола и устало смотрели на гостей, и уже после нескольких часов свадьбы не вдумывались, что им говорят, и только как машины по электрическому разряду начинают работу и выполняют заложенную в них программу, под крики «горько» приближали друг другу лица и касались друг с другом губами.
– Всякое в жизни бывает, – стала говорить Проскурина, – а на то она и жизнь. Уступайте друг другу и совсем сладите! Живите дружно, не забывайте родителей. Родители всегда помогут, на то они родители. Будьте счастливы!
Проскурина делала глоточек из рюмки и весело кривилась.
– Горько. Ой, как горько, – и сотня голосов, как по команде, затягивали до боли знакомую каждому русскому гулкую песню надежды.
Проскурина отдавала деньги отцу жениха и говорила, что остальные подарки, если хотите, можно забрать хоть сейчас, но лучше завтра или в другой удобный день, на том и решили.
Прасковья с Гавриилом Прокопьевичем целовали дочку и все никак не могли с ней проститься. Столов не скрывал слез, и как когда-то, когда Галя была совсем еще крохой, нежно прижимал дочку к груди. И Галя еще долго оглядывалась на отца с матерью, когда ее вели в невиданную прежде жизнь, и была такая минута, когда ей вдруг хотелось от всего отказаться и обратно вернуться на грудь к любящему отцу.
VII