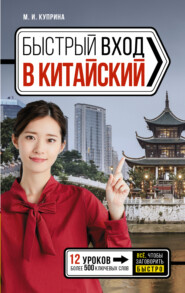По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опыт запредельного
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У. Джеймс, понимающий под религией прежде всего совокупность чувств, действий и опыта отдельной личности, последовательно отстаивает приоритет опыта (причем даже индивидуального религиозного опыта) перед социализованной, институциализированной религией: «По крайней мере, в одном отношении личная религия оказывается несомненно первичнее, чем богословие и церковь; всякая церковь, однажды учрежденная, живет после этого, опираясь на традицию; но «основатели» каждой церкви всегда черпали свою силу из непосредственного личного общения с божеством. Так было не только с теми, кому, как Христу, Будде или Магомету, приписывается сверхчеловеческая природа, но и со всеми основателями христианских сект» [8 - Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. С. 34.].
Таким образом, У. Джеймс, подобно Вл. Соловьеву, считает опыт, некоторое переживание, определенное психическое состояние первичным в формировании религии как таковой.
Прежде чем перейти к аргументам, проистекающим из достижений современной психологии, по-новому обосновывающим первичность психического опыта в формировании религии, представляется необходимым коснуться еще одного терминологического момента.
В самом начале настоящей книги было сказано, что она будет по преимуществу посвящена не религиозному опыту вообще – что превратило бы ее в работу по психологии религии и даже в какой-то мере в работу по социальной психологии, – а глубинным религиозным переживаниям, которые обычно подпадают под рубрику мистического опыта или просто мистики, мистицизма.
Между тем на всех предыдущих страницах мы стремились по возможности избегать слова «мистика».
Теперь пора сказать о причине этого подробно и с полной определенностью.
Слово «мистика» и все образованные от него прилагательные представляются нам в высшей степени неудачными по причине их нетерминологичности, то есть по причине отсутствия определенности и однозначности, что позволяет одному исследователю употреблять их в совершенно ином значении, нежели другому.
Слово «мистика» греческого происхождения и имеет значение тайного, сокровенного, соответствуя таким образом слову латинского происхождения – «оккультный». В Древней Греции существовало и существительное «мист», переводившееся в древнерусских текстах как «тайник» и означавшее участника мистерий, посвященного в таинства (слово «мистерия» и означает «таинство»), например в Элевсинские мистерии [9 - Достаточно курьезен тот факт, что в Византии слово «мистик» обозначало тайного советника.]. Позднее оно начинает использоваться для обозначения самых разных аспектов религиозных и парарелигиозных учений.
В религиоведческой литературе слово «мистика» обычно употребляется для обозначения:
1. Трансперсональных переживаний, предполагающих переживание непосредственного общения, единения или слияния с божеством, безличным Абсолютом или иным типом первоосновы бытия. Это может быть также переживание онтологического «ничто» или «пустоты», но, в любом случае, предполагает высшую форму святости, достижение спасения, освобождения и т. д. Здесь мы встречаемся с интенсивнейшим религиозным переживанием, выражающимся в достижении очень специфичных измененных состояний сознания (правомерность и желательность употребления последнего термина будет рассмотрена ниже). К той же группе переживаний могут быть отнесены различного типа измененные состояния сознания, предполагающие переживание архетипических (в юнговском смысле) образов и ситуаций: смерти и воскресения (обновления), гибели и воссоздания мира, духовного рождения, Великой Матери, Спасителя-Мессии и т. п. Вероятно, в качестве подгруппы этого типа можно рассматривать профетические феномены, а также разного рода «экстазы» и «трансы» (типа шаманских), не предполагающие обретения спасения или святости в смысле развитых мировых религий.
2. Разнообразных форм эзотерических ритуалов, мистерий и посвящений, иногда предполагающих, а иногда не предполагающих переживания первого рода. Вариантом этого типа мистического являются и христианские «мистерии» – таинства.
3. Различных форм оккультизма, причем иногда ярко выраженного паранаучного характера – магия, астрология, всевозможные виды мантики и т. д.
Понятно, что вышеназванные явления не только достаточно гетероморфны, но и гетерогенны, а посему между ними нет ничего общего, кроме названия. Особенно резко от первых двух групп отличаются феномены третьей группы. Тот факт, что Юнг видел и за ними психологическую основу, ничего принципиально в их гетерогенности не меняет.
И действительно, трудно увидеть что-то общее между переживанием погружения в божественное Ничто Мейстера Экхарта и столоверчением спиритов. Между тем, и то и другое называется мистикой. Повторим в этой связи еще раз, что нас будут интересовать только те феномены, обозначаемые бессодержательным словом «мистика», которые предполагают глубинные психологические переживания, связанные с достижением измененных (трансперсональных) состояний сознания, а также методы, приводящие к этим состояниям. Ниже мы постараемся обосновать и продемонстрировать на анализе эмпирического материала, что именно феномены такого рода не только образуют сердцевину, внутреннюю суть религиозного опыта, но и лежат в основе явления, которое мы называем религией. Здесь, правда, мы считаем нужным оговориться (эту оговорку время от времени придется повторять): данное утверждение не означает, что религия сводится к глубинным трансперсональным переживаниям. Разумеется, понятие религии гораздо шире и включает в себя и многое другое, подобно тому, как дом не сводится к фундаменту, но, тем не менее, покоится на нем.
Пока же вернемся к терминологическим проблемам. Термин «мистика» неудачен еще и потому, что имплицитно он предполагает оппозицию «разум – вера», или «разум – интуиция», или даже «рациональное – иррациональное». И это вполне понятно, поскольку данная (или данные) оппозиция была вскормлена западноевропейской цивилизацией, в лоне которой и вызрело само понятие «мистика». Причин тому много, но сейчас ограничимся упоминанием лишь одной: изначально заложенным в западной христианской культуре противоречием между ее античным и иудейским истоками, между Афинами и Иерусалимом, как выражался Тертуллиан. В иных же культурах, вполне гомогенных и вообще имеющих иные фундаментальные характеристики, такой оппозиции вообще не существовало, и в Индии, например, практически все мыслители (по европейским понятиям вполне рационально и часто рационалистически мыслившие) были одновременно по тем же самым западным понятиям «мистиками». Но об этом «парадоксе» (являющемся таковым только для европоцентристски мыслящего наблюдателя) подробнее речь пойдет ниже. В любом случае, такие коннотации употребляемого термина нас никоим образом не устраивают, поскольку всякий раз будут появляться в уме читателя вместе со словом «мистика» и искажать смысл того, о чем пойдет речь. Поэтому словами «мистик», «мистика», «мистицизм» мы станем пользоваться только тогда, когда речь будет идти о соответствующих феноменах в их европейско-христианском варианте: о западноевропейских созерцателях типа Мейстера Экхарта, или св. Иоанна Креста, или о восточнохристианских исихастах. Во всех других случаях, а также для обозначения самого феномена как такового слово «мистика» употребляться не будет.
Чем его можно заменить? Наилучшим вариантом было бы санскритское слово «йога», которое уже начинает приобретать оттенок понятия научного метаязыка (так, говорят о «даосской йоге», «мусульманской йоге» – суфизм, и даже о «христианской йоге» – исихазм). Нечто подобное произошло с такими словами, как «мана», «тотем», «табу» и «потлач», которые из слов тех или иных полинезийских или индейских языков превратились в общеупотребительные термины этнологии и отчасти вошли даже в повседневную речь (особенно это касается слова «табу»). Тем не менее со словом «йога» этого еще не произошло, и в ряде контекстов оно могло бы смотреться достаточно экзотично. Поэтому мы не будем форсировать события и пока сохраним за этим словом его индо-буддийскую специфику, хотя отчасти и жаль, что так приходится поступать, ибо слово «йога» означает как путь достижения «мистических» состояний, так в ряде случаев и цель этого пути.
Для внесения окончательной ясности в терминологический вопрос скажем, что методы достижения тех или иных глубинных трансперсональных состояний мы будем называть психотехникой [10 - Этот термин в данном значении был введен в науку современными петербургскими буддологами В. И. Рудым и Е. П. Островской.] (ср. у М. Элиаде – «техника экстаза»), а сами эти состояния – трансперсональными переживаниями.
От слов типа «экстаз» или «транс» в основном следует отказаться, поскольку, во?первых, они несколько скомпрометированы употреблением в обыденной речи (сексуальный экстаз у женщины, транс у наркомана и т. д.), а во?вторых, нехороши и по сути, так как не всякое глубинное переживание представляет собой некий «выход из», предполагаемый словом «экстаз», ибо, хотя трансперсональный опыт, по определению, подразумевает трансцендирование эмпирической индивидуальности «эго», это происходит, как правило, через самоуглубление, открытие подлинного «я» или божества в глубинах сознания, а не вовне. Правда, следует отметить, что именно экстазом называли высшее, с их точки зрения, трансперсональное переживание – погружение ума (нус) в Единое – неоплатоники, но из-за отсутствия установившейся традиции и терминологической однозначности использование слова «экстаз» в научном тексте представляется нежелательным. Последний аргумент (слабая терминированность) в еще большей степени справедлив относительно слова «транс». Тем не менее мы оставляем за собой право в отдельных случаях (в основном при описании тех или иных религиозных феноменов) использовать оба эти слова, если в конкретном случае строгая терминологичность не требуется, а смысловой контекст допускает подобное словоупотребление.
Несколько слов также следует сказать о термине «медитация», часто применяемом для обозначения различных психотехнических процедур. Этот термин представляется крайне неудачным, поскольку латинское meditatio, равно как и его новоевропейские (французский и английский) варианты, обозначает не что иное, как размышление (ср. «Рассуждение о методе» Декарта и «Мысли» Паскаля – в названия этих трудов в оригинале входит французский вариант слова «медитация»). Между тем психотехнические процедуры весьма далеки от процесса размышления, а в ряде случаев (точнее, практически всегда) они просто предполагают выход за пределы дискурсивного мышления, а следовательно, и медитации в строгом смысле этого слова. Поэтому представляется гораздо более уместным русское слово «созерцание», часто употребляемое в адекватном контексте в святоотеческой литературе.
Таким образом, говоря о религиозном опыте, мы в значительной степени сузили предмет исследования, поскольку речь далее будет идти по преимуществу об одном аспекте религиозного опыта, однако об аспекте центральном, позволяющем понять и остальные аспекты религиозного опыта, и религию в целом.
Более того, по нашему мнению, которое мы постараемся обосновать, все аспекты собственно психологии религии не только связаны с глубинными трансперсональными переживаниями, но являются по сути своей их проявлением как бы в слабой, «разбавленной» форме, точно так же, как различные таинства и обряды высоко-институционализованных религий, независимо от вторичных догматических и теологических их интерпретаций, восходят к тем или иным матрицам или паттернам трансперсонального опыта. По остроумному замечанию основоположника марксистской методологии, анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны (теоретическая основа этого остроумия – гегелевское учение о восхождении от абстрактного к конкретному и его же тезис о единстве логического и исторического). Тем не менее, независимо ни от каких методологических тонкостей, представляется совершенно очевидным, что именно изучение чистой, «идеальной» формы того или иного явления наиболее результативно для понимания сущностных характеристик этого явления. Данному принципу, собственно, следуют и естественные науки, изучая в экспериментальных условиях явления в их наиболее чистом виде. Точно так же и в нашем случае именно изучение глубинных трансперсональных основ религиозного опыта, как бы чистейшей эссенции этого опыта, возможно, окажется ключом к пониманию менее интенсивных, вторичных и опосредованных его проявлений.
Теперь остановимся подробнее на причинах высказанной выше убежденности в первичности глубинного религиозного опыта в формировании такой чрезвычайно сложной системы, как религия, с ее литургической, догматической, теологической и социально-институциональной составляющими. Почему именно глубинный религиозный опыт мы склонны рассматривать в качестве стержня или несущей конструкции этого сооружения? Для ответа на этот вопрос, а также для экспликации методологической основы исследования необходимо обратиться к рассмотрению ряда данных современной психологической науки.
Родоначальником современной глубинной психологии с полным основанием можно считать З. Фрейда, вклад которого в психологию сравним с кантовским переворотом в философии. Именно со времен Фрейда в науке все в большей и в большей степени утверждается понимание того, что так называемое сознание (в психологическом смысле) охватывает лишь ничтожную часть психики, являясь как бы верхушкой айсберга подсознательного и бессознательного. Однако ряд противоречий в теории Фрейда, а именно: а) сведение всех подсознательных комплексов к биографическим аспектам, особенно к переживаниям младенчества и детства; б) ограничение подсознательного сферой либидо – полового влечения; в) неспособность объяснить психологию саморазрушения – влечения к самоубийству, садомазохистские комплексы и т. п. (введение в систему Фрейда дуализма Эроса и Танатоса не только не спасало дела, но, наоборот, сильно его запутывало), – все эти противоречия способствовали процессу критического переосмысления теории Фрейда и ее развития через преодоление исходной односторонности.
Фрейдистская концепция религии как формы вытеснения либидозных влечений и их сублимации (работы «Тотем и табу», «Моисей и происхождение единобожия») в конечном итоге не удовлетворила ни психологов, ни религиоведов.
В результате в рамках психоаналитической парадигмы начинается развитие новых, постфрейдистских или неофрейдистских концепций, связанных с именами А. Адлера, Э. Фромма и К. Г. Юнга. Последний разработал теорию архетипов (неких обобщенных первообразов бессознательного, кодирующих его содержание и проявляющихся в мифологиях, переживаниях мистиков, художественном творчестве, снах, галлюцинациях и т. д.) и коллективного бессознательного как вместилища архетипических форм. Для Юнга характерен исключительный интерес к культурологической и религиоведческой тематике. Теория архетипов и поиск архетипических образов в культуре побуждала его заниматься вопросами алхимии, йоги, учением китайского «Канона Перемен» («И цзин») и многим другим, имевшим непосредственную связь с проблемами религиоведения. По существу, Юнгу удалось показать, что фрейдистское понимание подсознательного затрагивает лишь самый поверхностный слой глубинных измерений психики и никак не объясняет более глубокие области индивидуального и трансиндивидуального (интерсубъективного) бессознательного.
Далее необходимо упомянуть так называемую гуманистическую психологию, связанную с именами А. Маслоу и Р. Ассаджоли, показавшую, что «пиковые переживания», типологически соотносимые с опытом мистиков и традиционно квалифицируемые психиатрией как патологические, напротив, зачастую оказываются благотворными для переживших их людей. В результате исследования подобных состояний А. Маслоу пришел к выводу, что они относятся к категории выше нормы, а не ниже или вне ее. Маслоу считал, что высшие потребности представляют собой важный и имманентный аспект человеческой психики и структуры личности и не могут быть сведены к низшим инстинктам или, наоборот, быть выведены из них. С точки зрения Маслоу, высшие ценности (метаценности) и стремление к ним (метамотивация) свойственны природе человека, и признание этого факта необходимо для любой теории человеческой личности.
Но реальный прорыв как в накоплении эмпирического материала, необходимого для формирования психологического подхода к религиоведению и его верификации, так и в теоретическом осмыслении этого материала связан с именами ученых, создавших трансперсональную психологию. Это прежде всего американский психолог и психиатр С. Гроф (первоначально работавший в Чехословакии) и его соратники – К. Уилбер, Р. Уолш, Ф. Воон и др.
Эмпирической основой разработки трансперсональной психологии явились опыты с психоделиками, прежде всего с ЛСД. О сути и результатах этих опытов следует сказать подробнее.
Вопреки распространенному мнению, ЛСД (диэтиламид альфа-лизергиновой кислоты) не является наркотиком. С. Гроф определяет этот препарат как неспецифический усилитель ментальных процессов, выносящих на поверхность различные элементы из глубин бессознательного.
«То, что мы видим в ЛСД-переживаниях, – говорит он, – оказывается в основе своей экстериоризацией и усилением конфликтов, внутренне присущих человеческой природе и цивилизации. Если подходить с этой точки зрения, феномены ЛСД – чрезвычайно интересный материал для глубокого понимания ума (точнее, психики. – Е.Т.), природы человека и природы общества».
ЛСД был впервые синтезирован в 1938 году в Швейцарии П. Столлом и А. Хофманом как гинекологическое лекарство и средство от мигрени, но после оказавшихся неэффективными опытов над животными от его клинического использования отказались.
Психоделические (изменяющие сознание) свойства ЛСД были открыты случайно шведским химиком А. Хофманом в 1943 г. Вначале вызываемые им состояния были сочтены своего рода смоделированной шизофренией, и его даже рекомендовали студентам-психиатрам для лучшего понимания «изнутри» состояний своих пациентов. Таким образом, предполагалось, что препарат обладает психотомиметическим (моделирующим психоз) действием.
Очень быстро, однако, обнаружилось, что состояния, переживаемые в результате приема ЛСД, не имеют никакого отношения к шизофреническим, но, напротив, препарат обладает мощным психотерапевтическим эффектом. В результате серии сеансов приема ЛСД у больных различными формами шизофрении и психозами наблюдалось резкое улучшение, так что даже заговорили о нем как о панацее при лечении наиболее тяжелых и запущенных психотиков, хронических алкоголиков, наркоманов, криминальных психопатов и острых невротиков.
В 1960 г. появилась знаменитая статья С. Коэна, доказывавшая, что ЛСД-терапия значительно безопаснее многих других традиционных психотерапевтических процедур – электрошоковой терапии, лечения инсулиновой комой и психохирургии. Регулярно проводились и практически безвредные эксперименты со здоровыми добровольцами, также давшие чрезвычайно интересные материалы.
Однако после начала движения хиппи, когда ЛСД оказался широкодоступным за пределами клиник и университетов и стал важным фактором знаменитой «психоделической революции», разгорелся спор о безобидности подобных опытов и ЛСД-терапии вообще. Бесконтрольное употребление препарата в кругах битников и хиппи, окончившееся в отдельных случаях трагически, вызвало дискуссию в прессе, в которой средства массовой информации вместо обращения к специалистам и обсуждения вопроса о контроле над использованием ЛСД стали однозначно настраивать общественное мнение против любого, в том числе и клинического, применения ЛСД, что привело в США к правительственному запрету ЛСД-терапии. В настоящее же время раздается все больше и больше голосов ученых-психиатров, призывающих пересмотреть это решение.
В этих условиях психотерапевты-трансперсоналисты разработали весьма эффективные средства немедикаментозной терапии, приводящие к тем же результатам, что и клиническое использование ЛСД. Это прежде всего техника «холотропного дыхания» (от греч. holos – «целый» и trepein – «двигаться в направлении к чему-то», то есть ориентированный на целостность, тотальность), включающая в себя дыхательные упражнения, созерцание, использование музыки и т. п. [11 - Подробнее см.: Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт исследований с помощью ЛСД. М., 1994. С. 12–17.]
Мы никоим образом не считаем себя компетентными в обсуждении вопроса о правомерности клинического использования ЛСД или других психоделических препаратов.
Это прерогатива специалистов-психотерапевтов. Однако в связи с предметом настоящего исследования мы считаем своим долгом познакомить читателя с основными результатами исследований с помощью ЛСД, которые имеют огромную психологическую, культурологическую и философскую значимость. Здесь, разумеется, будет дан только самый краткий очерк этих результатов, подробную информацию о них читатель может получить из переведенных на русский язык работ С. Грофа, к которым мы его и адресуем [12 - Гроф С. Указ. соч. Он же. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М., 1993.].
Сокращенные повторные ссылки мы используем в пределах введения и каждой из трех частей книги.
Во-первых, выяснилось, что ЛСД последовательно открывает различные уровни бессознательного, причем первый, самый поверхностный, соответствует представлениям фрейдовской школы и замкнут на биографический уровень; второй соотносится с юнговским пониманием архетипов, коллективного бессознательного и с воспоминаниями о пренатальном (предшествующем рождению, внутриутробном) и перинатальном (связанном с процессом родов) опыте; а третий, весьма неоднородный, полиморфный уровень связан с различными трансперсональными переживаниями, соответствующими тем, что обычно называются мистическим опытом. Вместе с тем довольно часта суперпозиция (взаимоналожение) второго («юнговского») и третьего (трансперсонального) уровней, когда переживания тех или иных пренатальных или перинатальных переживаний сливаются с переживаниями трансперсонального типа.
Во-вторых, оказалось, что эти «измененные» состояния сознания (точнее, их переживание) не только не являются патологическими, но, напротив, способствуют ликвидации имеющейся психопатологии.
Теперь кратко охарактеризуем переживания второго и третьего уровней.
Прежде всего отметим, что само наличие пренатальной и перинатальной памяти, не говоря уже от трансперсональных состояниях, по-новому ставит вопрос о соотношении между мозгом и психикой. Традиционная психология отрицала возможность таковой памяти на том основании, что у новорожденного, и тем более у плода, мозг незрел и миелинизация кортикальных нейронов не завершена. Хотя, следует оговориться, австрийский психиатр О. Ранк еще в 1927 г. утверждал, что именно перинатальные переживания и память о родовой травме являются подлинной основой психологических комплексов и конфликтов. Необходимо подчеркнуть, что в ЛСД-сеансах имеют место именно воспоминания о перинатальных состояниях, а не аналогичные им галлюцинации, поскольку многое из сообщений пациентов относительно обстоятельств их внутриутробного развития и родов было верифицировано в ходе опроса их родителей или акушерского медперсонала.
С. Гроф выделяет четыре базовые перинатальные матрицы (далее – БПМ), которые характеризуются им со стороны: 1) физиологического процесса, соответствующего им; 2) соответствующих психопатологических синдромов (в случае травмированности); 3) активности фрейдовских эрогенных зон; 4) ассоциативной памяти постнатальной жизни и 5) их переживания на сеансах ЛСД (феноменология сеансов ЛСД).
В нашем очерке мы ограничимся в основном пунктами 1, 5 и, в отдельных случаях, 4 в связи с их релевантностью нашей проблематике.
БПМ I
1. Первоначальное единство с матерью до начала родов (внутриутробное переживание до начала родов).
4. Ситуации последующей жизни, когда удовлетворяются основные потребности, такие как счастливые моменты раннего детства и младенчества; ответная любовь, знакомство с предметами искусства высокой эстетической ценности; плавание в открытом море и чистых озерах и т. п. 5. Реалистические воспоминания опыта «хорошей матки», «океанический» тип экстаза; переживания космического единства; видения рая.
БПМ II
1. Антагонизм с матерью (схватки в закрытой маточной системе).
Таким образом, У. Джеймс, подобно Вл. Соловьеву, считает опыт, некоторое переживание, определенное психическое состояние первичным в формировании религии как таковой.
Прежде чем перейти к аргументам, проистекающим из достижений современной психологии, по-новому обосновывающим первичность психического опыта в формировании религии, представляется необходимым коснуться еще одного терминологического момента.
В самом начале настоящей книги было сказано, что она будет по преимуществу посвящена не религиозному опыту вообще – что превратило бы ее в работу по психологии религии и даже в какой-то мере в работу по социальной психологии, – а глубинным религиозным переживаниям, которые обычно подпадают под рубрику мистического опыта или просто мистики, мистицизма.
Между тем на всех предыдущих страницах мы стремились по возможности избегать слова «мистика».
Теперь пора сказать о причине этого подробно и с полной определенностью.
Слово «мистика» и все образованные от него прилагательные представляются нам в высшей степени неудачными по причине их нетерминологичности, то есть по причине отсутствия определенности и однозначности, что позволяет одному исследователю употреблять их в совершенно ином значении, нежели другому.
Слово «мистика» греческого происхождения и имеет значение тайного, сокровенного, соответствуя таким образом слову латинского происхождения – «оккультный». В Древней Греции существовало и существительное «мист», переводившееся в древнерусских текстах как «тайник» и означавшее участника мистерий, посвященного в таинства (слово «мистерия» и означает «таинство»), например в Элевсинские мистерии [9 - Достаточно курьезен тот факт, что в Византии слово «мистик» обозначало тайного советника.]. Позднее оно начинает использоваться для обозначения самых разных аспектов религиозных и парарелигиозных учений.
В религиоведческой литературе слово «мистика» обычно употребляется для обозначения:
1. Трансперсональных переживаний, предполагающих переживание непосредственного общения, единения или слияния с божеством, безличным Абсолютом или иным типом первоосновы бытия. Это может быть также переживание онтологического «ничто» или «пустоты», но, в любом случае, предполагает высшую форму святости, достижение спасения, освобождения и т. д. Здесь мы встречаемся с интенсивнейшим религиозным переживанием, выражающимся в достижении очень специфичных измененных состояний сознания (правомерность и желательность употребления последнего термина будет рассмотрена ниже). К той же группе переживаний могут быть отнесены различного типа измененные состояния сознания, предполагающие переживание архетипических (в юнговском смысле) образов и ситуаций: смерти и воскресения (обновления), гибели и воссоздания мира, духовного рождения, Великой Матери, Спасителя-Мессии и т. п. Вероятно, в качестве подгруппы этого типа можно рассматривать профетические феномены, а также разного рода «экстазы» и «трансы» (типа шаманских), не предполагающие обретения спасения или святости в смысле развитых мировых религий.
2. Разнообразных форм эзотерических ритуалов, мистерий и посвящений, иногда предполагающих, а иногда не предполагающих переживания первого рода. Вариантом этого типа мистического являются и христианские «мистерии» – таинства.
3. Различных форм оккультизма, причем иногда ярко выраженного паранаучного характера – магия, астрология, всевозможные виды мантики и т. д.
Понятно, что вышеназванные явления не только достаточно гетероморфны, но и гетерогенны, а посему между ними нет ничего общего, кроме названия. Особенно резко от первых двух групп отличаются феномены третьей группы. Тот факт, что Юнг видел и за ними психологическую основу, ничего принципиально в их гетерогенности не меняет.
И действительно, трудно увидеть что-то общее между переживанием погружения в божественное Ничто Мейстера Экхарта и столоверчением спиритов. Между тем, и то и другое называется мистикой. Повторим в этой связи еще раз, что нас будут интересовать только те феномены, обозначаемые бессодержательным словом «мистика», которые предполагают глубинные психологические переживания, связанные с достижением измененных (трансперсональных) состояний сознания, а также методы, приводящие к этим состояниям. Ниже мы постараемся обосновать и продемонстрировать на анализе эмпирического материала, что именно феномены такого рода не только образуют сердцевину, внутреннюю суть религиозного опыта, но и лежат в основе явления, которое мы называем религией. Здесь, правда, мы считаем нужным оговориться (эту оговорку время от времени придется повторять): данное утверждение не означает, что религия сводится к глубинным трансперсональным переживаниям. Разумеется, понятие религии гораздо шире и включает в себя и многое другое, подобно тому, как дом не сводится к фундаменту, но, тем не менее, покоится на нем.
Пока же вернемся к терминологическим проблемам. Термин «мистика» неудачен еще и потому, что имплицитно он предполагает оппозицию «разум – вера», или «разум – интуиция», или даже «рациональное – иррациональное». И это вполне понятно, поскольку данная (или данные) оппозиция была вскормлена западноевропейской цивилизацией, в лоне которой и вызрело само понятие «мистика». Причин тому много, но сейчас ограничимся упоминанием лишь одной: изначально заложенным в западной христианской культуре противоречием между ее античным и иудейским истоками, между Афинами и Иерусалимом, как выражался Тертуллиан. В иных же культурах, вполне гомогенных и вообще имеющих иные фундаментальные характеристики, такой оппозиции вообще не существовало, и в Индии, например, практически все мыслители (по европейским понятиям вполне рационально и часто рационалистически мыслившие) были одновременно по тем же самым западным понятиям «мистиками». Но об этом «парадоксе» (являющемся таковым только для европоцентристски мыслящего наблюдателя) подробнее речь пойдет ниже. В любом случае, такие коннотации употребляемого термина нас никоим образом не устраивают, поскольку всякий раз будут появляться в уме читателя вместе со словом «мистика» и искажать смысл того, о чем пойдет речь. Поэтому словами «мистик», «мистика», «мистицизм» мы станем пользоваться только тогда, когда речь будет идти о соответствующих феноменах в их европейско-христианском варианте: о западноевропейских созерцателях типа Мейстера Экхарта, или св. Иоанна Креста, или о восточнохристианских исихастах. Во всех других случаях, а также для обозначения самого феномена как такового слово «мистика» употребляться не будет.
Чем его можно заменить? Наилучшим вариантом было бы санскритское слово «йога», которое уже начинает приобретать оттенок понятия научного метаязыка (так, говорят о «даосской йоге», «мусульманской йоге» – суфизм, и даже о «христианской йоге» – исихазм). Нечто подобное произошло с такими словами, как «мана», «тотем», «табу» и «потлач», которые из слов тех или иных полинезийских или индейских языков превратились в общеупотребительные термины этнологии и отчасти вошли даже в повседневную речь (особенно это касается слова «табу»). Тем не менее со словом «йога» этого еще не произошло, и в ряде контекстов оно могло бы смотреться достаточно экзотично. Поэтому мы не будем форсировать события и пока сохраним за этим словом его индо-буддийскую специфику, хотя отчасти и жаль, что так приходится поступать, ибо слово «йога» означает как путь достижения «мистических» состояний, так в ряде случаев и цель этого пути.
Для внесения окончательной ясности в терминологический вопрос скажем, что методы достижения тех или иных глубинных трансперсональных состояний мы будем называть психотехникой [10 - Этот термин в данном значении был введен в науку современными петербургскими буддологами В. И. Рудым и Е. П. Островской.] (ср. у М. Элиаде – «техника экстаза»), а сами эти состояния – трансперсональными переживаниями.
От слов типа «экстаз» или «транс» в основном следует отказаться, поскольку, во?первых, они несколько скомпрометированы употреблением в обыденной речи (сексуальный экстаз у женщины, транс у наркомана и т. д.), а во?вторых, нехороши и по сути, так как не всякое глубинное переживание представляет собой некий «выход из», предполагаемый словом «экстаз», ибо, хотя трансперсональный опыт, по определению, подразумевает трансцендирование эмпирической индивидуальности «эго», это происходит, как правило, через самоуглубление, открытие подлинного «я» или божества в глубинах сознания, а не вовне. Правда, следует отметить, что именно экстазом называли высшее, с их точки зрения, трансперсональное переживание – погружение ума (нус) в Единое – неоплатоники, но из-за отсутствия установившейся традиции и терминологической однозначности использование слова «экстаз» в научном тексте представляется нежелательным. Последний аргумент (слабая терминированность) в еще большей степени справедлив относительно слова «транс». Тем не менее мы оставляем за собой право в отдельных случаях (в основном при описании тех или иных религиозных феноменов) использовать оба эти слова, если в конкретном случае строгая терминологичность не требуется, а смысловой контекст допускает подобное словоупотребление.
Несколько слов также следует сказать о термине «медитация», часто применяемом для обозначения различных психотехнических процедур. Этот термин представляется крайне неудачным, поскольку латинское meditatio, равно как и его новоевропейские (французский и английский) варианты, обозначает не что иное, как размышление (ср. «Рассуждение о методе» Декарта и «Мысли» Паскаля – в названия этих трудов в оригинале входит французский вариант слова «медитация»). Между тем психотехнические процедуры весьма далеки от процесса размышления, а в ряде случаев (точнее, практически всегда) они просто предполагают выход за пределы дискурсивного мышления, а следовательно, и медитации в строгом смысле этого слова. Поэтому представляется гораздо более уместным русское слово «созерцание», часто употребляемое в адекватном контексте в святоотеческой литературе.
Таким образом, говоря о религиозном опыте, мы в значительной степени сузили предмет исследования, поскольку речь далее будет идти по преимуществу об одном аспекте религиозного опыта, однако об аспекте центральном, позволяющем понять и остальные аспекты религиозного опыта, и религию в целом.
Более того, по нашему мнению, которое мы постараемся обосновать, все аспекты собственно психологии религии не только связаны с глубинными трансперсональными переживаниями, но являются по сути своей их проявлением как бы в слабой, «разбавленной» форме, точно так же, как различные таинства и обряды высоко-институционализованных религий, независимо от вторичных догматических и теологических их интерпретаций, восходят к тем или иным матрицам или паттернам трансперсонального опыта. По остроумному замечанию основоположника марксистской методологии, анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны (теоретическая основа этого остроумия – гегелевское учение о восхождении от абстрактного к конкретному и его же тезис о единстве логического и исторического). Тем не менее, независимо ни от каких методологических тонкостей, представляется совершенно очевидным, что именно изучение чистой, «идеальной» формы того или иного явления наиболее результативно для понимания сущностных характеристик этого явления. Данному принципу, собственно, следуют и естественные науки, изучая в экспериментальных условиях явления в их наиболее чистом виде. Точно так же и в нашем случае именно изучение глубинных трансперсональных основ религиозного опыта, как бы чистейшей эссенции этого опыта, возможно, окажется ключом к пониманию менее интенсивных, вторичных и опосредованных его проявлений.
Теперь остановимся подробнее на причинах высказанной выше убежденности в первичности глубинного религиозного опыта в формировании такой чрезвычайно сложной системы, как религия, с ее литургической, догматической, теологической и социально-институциональной составляющими. Почему именно глубинный религиозный опыт мы склонны рассматривать в качестве стержня или несущей конструкции этого сооружения? Для ответа на этот вопрос, а также для экспликации методологической основы исследования необходимо обратиться к рассмотрению ряда данных современной психологической науки.
Родоначальником современной глубинной психологии с полным основанием можно считать З. Фрейда, вклад которого в психологию сравним с кантовским переворотом в философии. Именно со времен Фрейда в науке все в большей и в большей степени утверждается понимание того, что так называемое сознание (в психологическом смысле) охватывает лишь ничтожную часть психики, являясь как бы верхушкой айсберга подсознательного и бессознательного. Однако ряд противоречий в теории Фрейда, а именно: а) сведение всех подсознательных комплексов к биографическим аспектам, особенно к переживаниям младенчества и детства; б) ограничение подсознательного сферой либидо – полового влечения; в) неспособность объяснить психологию саморазрушения – влечения к самоубийству, садомазохистские комплексы и т. п. (введение в систему Фрейда дуализма Эроса и Танатоса не только не спасало дела, но, наоборот, сильно его запутывало), – все эти противоречия способствовали процессу критического переосмысления теории Фрейда и ее развития через преодоление исходной односторонности.
Фрейдистская концепция религии как формы вытеснения либидозных влечений и их сублимации (работы «Тотем и табу», «Моисей и происхождение единобожия») в конечном итоге не удовлетворила ни психологов, ни религиоведов.
В результате в рамках психоаналитической парадигмы начинается развитие новых, постфрейдистских или неофрейдистских концепций, связанных с именами А. Адлера, Э. Фромма и К. Г. Юнга. Последний разработал теорию архетипов (неких обобщенных первообразов бессознательного, кодирующих его содержание и проявляющихся в мифологиях, переживаниях мистиков, художественном творчестве, снах, галлюцинациях и т. д.) и коллективного бессознательного как вместилища архетипических форм. Для Юнга характерен исключительный интерес к культурологической и религиоведческой тематике. Теория архетипов и поиск архетипических образов в культуре побуждала его заниматься вопросами алхимии, йоги, учением китайского «Канона Перемен» («И цзин») и многим другим, имевшим непосредственную связь с проблемами религиоведения. По существу, Юнгу удалось показать, что фрейдистское понимание подсознательного затрагивает лишь самый поверхностный слой глубинных измерений психики и никак не объясняет более глубокие области индивидуального и трансиндивидуального (интерсубъективного) бессознательного.
Далее необходимо упомянуть так называемую гуманистическую психологию, связанную с именами А. Маслоу и Р. Ассаджоли, показавшую, что «пиковые переживания», типологически соотносимые с опытом мистиков и традиционно квалифицируемые психиатрией как патологические, напротив, зачастую оказываются благотворными для переживших их людей. В результате исследования подобных состояний А. Маслоу пришел к выводу, что они относятся к категории выше нормы, а не ниже или вне ее. Маслоу считал, что высшие потребности представляют собой важный и имманентный аспект человеческой психики и структуры личности и не могут быть сведены к низшим инстинктам или, наоборот, быть выведены из них. С точки зрения Маслоу, высшие ценности (метаценности) и стремление к ним (метамотивация) свойственны природе человека, и признание этого факта необходимо для любой теории человеческой личности.
Но реальный прорыв как в накоплении эмпирического материала, необходимого для формирования психологического подхода к религиоведению и его верификации, так и в теоретическом осмыслении этого материала связан с именами ученых, создавших трансперсональную психологию. Это прежде всего американский психолог и психиатр С. Гроф (первоначально работавший в Чехословакии) и его соратники – К. Уилбер, Р. Уолш, Ф. Воон и др.
Эмпирической основой разработки трансперсональной психологии явились опыты с психоделиками, прежде всего с ЛСД. О сути и результатах этих опытов следует сказать подробнее.
Вопреки распространенному мнению, ЛСД (диэтиламид альфа-лизергиновой кислоты) не является наркотиком. С. Гроф определяет этот препарат как неспецифический усилитель ментальных процессов, выносящих на поверхность различные элементы из глубин бессознательного.
«То, что мы видим в ЛСД-переживаниях, – говорит он, – оказывается в основе своей экстериоризацией и усилением конфликтов, внутренне присущих человеческой природе и цивилизации. Если подходить с этой точки зрения, феномены ЛСД – чрезвычайно интересный материал для глубокого понимания ума (точнее, психики. – Е.Т.), природы человека и природы общества».
ЛСД был впервые синтезирован в 1938 году в Швейцарии П. Столлом и А. Хофманом как гинекологическое лекарство и средство от мигрени, но после оказавшихся неэффективными опытов над животными от его клинического использования отказались.
Психоделические (изменяющие сознание) свойства ЛСД были открыты случайно шведским химиком А. Хофманом в 1943 г. Вначале вызываемые им состояния были сочтены своего рода смоделированной шизофренией, и его даже рекомендовали студентам-психиатрам для лучшего понимания «изнутри» состояний своих пациентов. Таким образом, предполагалось, что препарат обладает психотомиметическим (моделирующим психоз) действием.
Очень быстро, однако, обнаружилось, что состояния, переживаемые в результате приема ЛСД, не имеют никакого отношения к шизофреническим, но, напротив, препарат обладает мощным психотерапевтическим эффектом. В результате серии сеансов приема ЛСД у больных различными формами шизофрении и психозами наблюдалось резкое улучшение, так что даже заговорили о нем как о панацее при лечении наиболее тяжелых и запущенных психотиков, хронических алкоголиков, наркоманов, криминальных психопатов и острых невротиков.
В 1960 г. появилась знаменитая статья С. Коэна, доказывавшая, что ЛСД-терапия значительно безопаснее многих других традиционных психотерапевтических процедур – электрошоковой терапии, лечения инсулиновой комой и психохирургии. Регулярно проводились и практически безвредные эксперименты со здоровыми добровольцами, также давшие чрезвычайно интересные материалы.
Однако после начала движения хиппи, когда ЛСД оказался широкодоступным за пределами клиник и университетов и стал важным фактором знаменитой «психоделической революции», разгорелся спор о безобидности подобных опытов и ЛСД-терапии вообще. Бесконтрольное употребление препарата в кругах битников и хиппи, окончившееся в отдельных случаях трагически, вызвало дискуссию в прессе, в которой средства массовой информации вместо обращения к специалистам и обсуждения вопроса о контроле над использованием ЛСД стали однозначно настраивать общественное мнение против любого, в том числе и клинического, применения ЛСД, что привело в США к правительственному запрету ЛСД-терапии. В настоящее же время раздается все больше и больше голосов ученых-психиатров, призывающих пересмотреть это решение.
В этих условиях психотерапевты-трансперсоналисты разработали весьма эффективные средства немедикаментозной терапии, приводящие к тем же результатам, что и клиническое использование ЛСД. Это прежде всего техника «холотропного дыхания» (от греч. holos – «целый» и trepein – «двигаться в направлении к чему-то», то есть ориентированный на целостность, тотальность), включающая в себя дыхательные упражнения, созерцание, использование музыки и т. п. [11 - Подробнее см.: Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт исследований с помощью ЛСД. М., 1994. С. 12–17.]
Мы никоим образом не считаем себя компетентными в обсуждении вопроса о правомерности клинического использования ЛСД или других психоделических препаратов.
Это прерогатива специалистов-психотерапевтов. Однако в связи с предметом настоящего исследования мы считаем своим долгом познакомить читателя с основными результатами исследований с помощью ЛСД, которые имеют огромную психологическую, культурологическую и философскую значимость. Здесь, разумеется, будет дан только самый краткий очерк этих результатов, подробную информацию о них читатель может получить из переведенных на русский язык работ С. Грофа, к которым мы его и адресуем [12 - Гроф С. Указ. соч. Он же. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М., 1993.].
Сокращенные повторные ссылки мы используем в пределах введения и каждой из трех частей книги.
Во-первых, выяснилось, что ЛСД последовательно открывает различные уровни бессознательного, причем первый, самый поверхностный, соответствует представлениям фрейдовской школы и замкнут на биографический уровень; второй соотносится с юнговским пониманием архетипов, коллективного бессознательного и с воспоминаниями о пренатальном (предшествующем рождению, внутриутробном) и перинатальном (связанном с процессом родов) опыте; а третий, весьма неоднородный, полиморфный уровень связан с различными трансперсональными переживаниями, соответствующими тем, что обычно называются мистическим опытом. Вместе с тем довольно часта суперпозиция (взаимоналожение) второго («юнговского») и третьего (трансперсонального) уровней, когда переживания тех или иных пренатальных или перинатальных переживаний сливаются с переживаниями трансперсонального типа.
Во-вторых, оказалось, что эти «измененные» состояния сознания (точнее, их переживание) не только не являются патологическими, но, напротив, способствуют ликвидации имеющейся психопатологии.
Теперь кратко охарактеризуем переживания второго и третьего уровней.
Прежде всего отметим, что само наличие пренатальной и перинатальной памяти, не говоря уже от трансперсональных состояниях, по-новому ставит вопрос о соотношении между мозгом и психикой. Традиционная психология отрицала возможность таковой памяти на том основании, что у новорожденного, и тем более у плода, мозг незрел и миелинизация кортикальных нейронов не завершена. Хотя, следует оговориться, австрийский психиатр О. Ранк еще в 1927 г. утверждал, что именно перинатальные переживания и память о родовой травме являются подлинной основой психологических комплексов и конфликтов. Необходимо подчеркнуть, что в ЛСД-сеансах имеют место именно воспоминания о перинатальных состояниях, а не аналогичные им галлюцинации, поскольку многое из сообщений пациентов относительно обстоятельств их внутриутробного развития и родов было верифицировано в ходе опроса их родителей или акушерского медперсонала.
С. Гроф выделяет четыре базовые перинатальные матрицы (далее – БПМ), которые характеризуются им со стороны: 1) физиологического процесса, соответствующего им; 2) соответствующих психопатологических синдромов (в случае травмированности); 3) активности фрейдовских эрогенных зон; 4) ассоциативной памяти постнатальной жизни и 5) их переживания на сеансах ЛСД (феноменология сеансов ЛСД).
В нашем очерке мы ограничимся в основном пунктами 1, 5 и, в отдельных случаях, 4 в связи с их релевантностью нашей проблематике.
БПМ I
1. Первоначальное единство с матерью до начала родов (внутриутробное переживание до начала родов).
4. Ситуации последующей жизни, когда удовлетворяются основные потребности, такие как счастливые моменты раннего детства и младенчества; ответная любовь, знакомство с предметами искусства высокой эстетической ценности; плавание в открытом море и чистых озерах и т. п. 5. Реалистические воспоминания опыта «хорошей матки», «океанический» тип экстаза; переживания космического единства; видения рая.
БПМ II
1. Антагонизм с матерью (схватки в закрытой маточной системе).