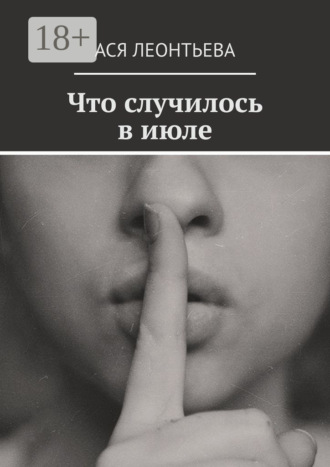
Что случилось в июле
В будущем он мечтал написать книгу, где все эти безымянные люди послужат ему прообразами. Это будет большой роман, говорил он, в нескольких томах, в нём будет «всё обо всех». Масштабное полотно со сложными характерами, витиеватым сюжетом и, конечно, непредсказуемым финалом. Но Аисту всегда казалось, что фактов и деталей ещё недостаточно. Из года в год он продолжал свои наблюдения в надежде связать все нити, переплести их между собой, чтобы получилась единая история. Только вот люди, за которыми он следил из окна, не были связаны ничем, кроме него самого, наблюдающего за ними. В этом состояла неразрешимая трудность его замысла: о себе он не мог сочинить ни строчки.
Я многое могу рассказать об Аисте, потому что успела хорошо изучить его странности. Например, он всегда говорил о школе так, словно учился в ней вчера. Это были самые яркие, страшные и печальные годы его жизни, полные приключений, драк, нежности и полного одиночества. Подростковое прошлое было для него куда яснее, чем настоящее. Казалось, в то время Аист совершил все важные для себя открытия, принял все необходимые для жизни решения и с тех пор не узнал о мире ничего нового. Его душа застыла в какой-то красивой и правильной форме, неспособная больше пошевелиться.
Мать Аиста по образованию была учителем литературы, но всю жизнь торговала одеждой на рынке. Именно она сказала сыну, что однажды тот станет писателем и прославится. В детстве она проверяла перед сдачей его школьные сочинения, и те из них, что ей особенно нравились, читала себе вслух. Удачные абзацы она переписывала в большой блокнот, который и сейчас хранился где-то в её спальне.
Аист любил и боялся мать, потому много о ней говорил. Так я узнала, что раз в два месяца она летала в Турцию за новой партией вещей. Что она обладала сильным характером и глубоким презрением к мужчинам. Что друзей у неё не было, и общалась она с одной только сестрой, удивительно похожей на неё и такой же одинокой. А ещё с матерью, овдовевшей и больной женщиной, которая жила в деревне и наотрез отказывалась переезжать в город. Сёстры навещали её каждые выходные.
Пока мать была на работе, Аист гулял по городу, который за долгие годы одиночества успел выучить наизусть. Он забирался на крыши многоэтажек, на забытые стройки, в заброшенные подземные переходы. Он не любил толпу, огни и музыку, не любил машины и их слепящий свет. Лучшим местом для прогулок был всё тот же парк через дорогу – огромный, дикий, сползающий к набережной, как огромная древесная лавина. Здесь можно было потеряться среди деревьев и идти по любой тропинке из тех, что разбегались в разные стороны от главной, с фонарями по обочине. Обязательным было лишь вернуться домой раньше четырёх – опоздать было немыслимо, ведь мама могла почувствовать его халатное отношение к ней. Это чувство было хорошо знакомо Аисту – оно возникало у матери всякий раз, когда он её «разочаровывал». Разочарованием могла стать невымытая вовремя посуда, плохо приготовленный ужин или неровно выглаженные стрелки на её брюках. Стоило ему сказать хоть слово против, как глаза её темнели, лицо становилось непроницаемым, будто внутри неё зрело что-то большое и громкое. Аист боялся этого выражения лица. Он знал, что за ним последуют упреки в невнимательности, в нелюбви и неблагодарности к ней, с таким трудом вырастившей его. Он готов был бежать от этих упрёков, закрыв глаза и уши. В такие минуты она была ему чужим, враждебным существом.
Женщин Аист остерегался. Всякий раз, прикасаясь к ним, он словно спотыкался о какую-то неприятную мысль, которую никак не мог додумать до конца. Он стыдился своей слабости перед красотой и тёплой наготой женского тела. Я помню, как он рассказывал мне про какого-то английского программиста, который ни разу в жизни не имел интимной близости и гордился этим как абсолютной победой воли и разума над физиологией. Ещё он упоминал о семье пианистов, которые два года после свадьбы не занимались сексом, считая это дело грязным и недостойным возвышенных натур. Словом, он был девственником и не собирался ничего с этим делать.
Каждый день Аист вёл борьбу в самим собой, разрываясь между желанием идти куда глаза глядят и лететь на тёплый свет родного дома, запах материнских духов и свежевыстиранного белья. Субботы он ждал как избавления. В выходные, когда мама уезжала в деревню, он был предоставлен сам себе и мог делать, что пожелает. Желал он обычно одного – напиться. Поэтому мы брали по бутылке вина и отправлялись в город. Мы шли, захлёбываясь собственными пьяными мыслями и словами. Мы шли в никуда – а потом возвращались. Мы брали с собой любимые книги и читали их вслух. Нам некуда было спешить, нас никто не ждал. Мы были жалкими и не скрывали это друг от друга. Мы даже гордились, что ничего из себя не представляем. Наши положение, внешность и поведение не волновали нас. Мы были свободны.
– Ты маменькин сынок, импотент и тряпка бесхарактерная, – говорила я, когда мы играли в оскорбления.
– Слабовато, – отвечал он. – Ты вот, например, похожа на крысу, волосы у тебя грязные, а ещё ты тупая как пробка.
Это было не обидно. Ничто не могло быть обидно, потому что ничто не было важно и дорого. Можно было бросаться словами и грязью, бить друг друга у всех на глазах – это ничего бы не изменило. Мы всё так же встречались бы по выходным и шли прогуливать свои бессмысленные жизни.
– Твой отец, знаешь, был странным, – сказал Аист как-то. – Он иногда не бывал дома целыми днями, а потом возвращался и неделю не выходил. Я думал, у него нет никого из родни. А у него, оказывается, ты была. Я не говорил тебе раньше, но это я его нашёл мёртвым. Он лежал между стеной и креслом – вот ведь место для смерти, как специально готовил. Отодвинул кресло… Всюду в квартире валялись кусочки туалетной бумаги – я не понял почему. Дверь, знаешь, была не закрыта с ночи, а я вышел утром и решил заглянуть.
Мы гуляли и говорили часами, пока вино не заканчивалось. Мы покупали ещё, и я рассказывала ему о бывшей работе, университетских друзьях и городе, который когда-то считала своим. Я говорила, что ссорюсь с мамой по телефону, что так же, как он, мечтаю написать книгу – но всё оттягиваю время. Все мои рассказы в итоге приводили к отцу – это было неизбежно, как утреннее похмелье.
– Знаешь, я ведь почти его не знала, – говорила я. – Он умер, а я даже не плакала – как будто это чужой кто-то умер. А теперь вот повсюду чувствую его.
Аист не перебивал меня, а только кивал и потягивал своё красное сухое. Он никогда не пытался меня успокоить. Когда я замолкала, он просто начинал одну из своих историй. Их у него в запасе было много, и он умел не повторяться. Ко всему прочему, у него была превосходная память. Он пересказывал мне сюжеты прошлогодних новостей, рассказывал о жизни обитателей нашего двора или случаях, которые произошли с ним во время прогулки пять лет назад. Порой мне трудно было разобрать, говорит он правду или выдумывает.
– Жила тут недалеко в коттеджном посёлке одна женщина, звали её Света, – говорил он. – Эта Света знала больше двадцати способов летать во сне. С детства ей снилось небо, крыши домов, раскачивающиеся на ветру макушки деревьев. Она могла легко оттолкнуться ногами от земли и парить, а могла стремительно взмыть в вышину и оттуда махать крошечным людям, оставшимся далеко внизу. Однажды у неё, кажется, даже были крылья: они посвистывали, рассекая воздух за спиной, и слегка тянули спину, будто портфель у школьника. На самом деле она ходила во сне. Порой муж с удивлением просыпался в пустой кровати, а позже находил её спящей за кухонным столом, в кресле или на чердаке. Залезть наверх по лестнице было сложно даже при свете дня, и он никак не мог взять в толк, как Света пробирается туда в темноте, на ощупь. Приступы лунатизма были хоть и неприятными, но слишком редкими, чтобы вызвать серьёзное беспокойство. К тому же, по словам Светы, в детстве она ходила во сне чуть ли ни каждую ночь, и вся её семья к этому привыкла. «Я ещё и разговаривала при этом, – с улыбкой рассказывала она. – Представляешь? Никто из братьев и сестёр не хотел со мной в одной комнате спать». В прошлом году Свету нашли мёртвой на старой заброшенной стройке в двух километрах от посёлка, где жили они с мужем. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате несчастного случая – падения с большой высоты. Только вот не было поблизости от того места ни одного высокого здания.
Я слушала без интереса, а когда Аист заканчивал, всегда просила рассказать ещё об отце. Хоть небольшую, незначительную деталь, хоть обрывок разговора, подслушанный на лестничной площадке. И он рассказывал мне, пока его воспоминания не закончились.
Сам Аист называл свои истории «сказками». Порой он записывал их в виде рассказов, запечатывал в большие конверты и клал мне в почтовый ящик. Он говорил, что так практикуется перед созданием своего главного романа. За время нашего знакомства он послал мне дюжину таких конвертов и всегда просил не вскрывать их при нём, а уносить домой невредимыми. Только в своей комнате, сосредоточившись, я должна была разорвать конверт и начать чтение.
4. «Сказка о темноте» (из писем Аиста)
Когда уходят отцы – они уходят навсегда.
Матери, ещё полные нерастраченной нежности, начинают усиленно потчевать ею детей – так, что из тех вырастают лирики, художники и социальные работники. У каждого ребенка, покинутого отцом, на лбу есть невидимая отметина – она выделяет его из толпы сверстников; печать эта выдаёт в своём обладателе мягкий характер, вечную незрелость, жажду получить совет или, может, одобрение. Да, одобрения покинутые отцами дети ищут всю жизнь, подавляя неуверенность и доказывая себе и другим, что они не хуже. Ничуть не хуже.
Изредка фигура отца появляется на горизонте, точно заблудившийся в море корабль. Выглядит эта фигура довольно осязаемой, и покинутый ребёнок может даже приблизиться и заговорить с ней. Он попытается завоевать внимание странного гостя, его расположение и интерес, отчего разговор между ними будет неловким и недолгим. Ведь фигура, похожая на корабль, не хочет ничего, кроме продолжения плавания.
Жил-был на свете один мальчик, который лучше всех в классе писал сочинения. Это были даже не сочинения, а целые маленькие рассказы, с сюжетными линиями, героями и конфликтами (удачные отрывки учительница зачитывала вслух перед всеми ребятами). Никто в школе не догадывался, что любовь мальчика к сочинительству проявляется не только в учёбе – дома на подоконнике его комнаты лежала «учётная книга» с твёрдой деревянной обложкой. В ней мальчик хранил свой роман или, как он его называл, «труд», посвящённый жизни на далёкой планете с таинственным названием Нубарий. Планету населяли крылатые темнокожие люди – они вили гнезда в скалах над беспокойным океаном и воевали с морскими чудовищами, которые то и дело пытались выползти на сушу.
Мама мальчика тихо гордилась сыном и порой тайком от него перечитывала рукопись, сидя на кухне поздними вечерами. Какое воображение! Придумать весь этот мир, полный красоты и опасности…. Она вчитывалась в описание планеты Нубарий и видела перед собой края исполинских утёсов, застывших в могучем тёмном порыве, видела луны, парящие над сизой водой океана, и сотни тысяч глиняных домов, нависших над берегом, как огромные ульи. Маме казалось, что сын унаследовал писательский талант от отца – тот тоже пытался сочинять рассказы, пока не устроился в газету. Однажды его по заданию редакции отправили на другой конец страны, и больше он не возвращался. Мама слышала по телевизору, что каждый год в России пропадает без вести 50 тысяч человек, и цифра эта наводила её на ленивые размышления о загадках вселенной: что, если где-то есть место, куда попадают все эти исчезнувшие люди? Что, если они сидят там в заточении без всякой возможности выбраться?
На книжной полке в комнате мальчика стояла семейная фотография: они втроём в купальных костюмах на фоне солнечного моря. Мальчику на фото было лет шесть, отец держал его за руку, а мама, чуть в стороне, улыбалась кому-то за пределами кадра. Мальчик часто рассматривал снимок, пытаясь найти сходство своего детского личика с лицом отца. Ему нравился этот загорелый, сильный человек, который с уверенной улыбкой глядел на него из-под рамки. Мама однажды сказала мальчику, что его папа в прошлом тоже хотел стать писателем – с тех пор мальчик мечтал показать ему свой роман о планете Нубарий и втайне надеялся на похвалу.
Хоть чрезвычайная одаренность сына (и в не меньшей степени – его сходство с отцом) доставляли маме радость, она понимала, что у богатой фантазии мальчика есть и обратная сторона: с ранних лет он боялся засыпать в тёмной комнате. На все вопросы мамы мальчик смущённо, словно осознавая наивность своих страхов, объяснял: в его шкафу, стоящем напротив кровати, в темноте кто-то начинает шевелиться и тихо кашлять. Как только ни боролась мама с этой странной боязнью! Ставила сыну успокаивающую музыку перед сном, разговаривала с ним часами, сидела в его комнате допоздна, дожидаясь, пока тот уснет. Но ничего не помогало: каждое утро мама находила мальчика спящим при свете люстры, который почти сливался с утренним светом улицы.
Шкаф несколько раз переставляли то к окну, то к двери, но мальчик говорил, что от этого ничего не меняется. Тот, кто живёт в шкафу, всё равно каждую ночь шуршит, кашляет, а ещё иногда бормочет что-то вроде считалки. Мальчику даже казалось, что где-то он её уже слышал.
Однажды ночью мама проснулась от крика – сын выбежал в коридор в одних трусах и трясся, прислонившись к стене. Из его несвязной речи, всхлипов и криков мама поняла, что он по её настоятельной просьбе выключил свет на ночь, но так и не смог уснуть. Дверцы шкафа начали поскрипывать, а потом в комнате возникло что-то серое и высокое – оно неподвижно стояло у окна и смотрело на мальчика. Мама тут же бросилась в детскую, но там никого не было. Только вещи из шкафа разбросаны по полу.
Следующим вечером, вернувшись с работы, мама по привычке взяла с подоконника «труд», надеясь найти в нём новые строки о войне крылатых людей с морскими монстрами. Но вместо этого сюжет в романе её сына сделал неожиданный поворот: на страницах возник образ огромного серого фрегата, корабля-призрака без парусов, медленно и жутко выплывающего из-за горизонта. У кормы стоял капитан – он смотрел в подзорную трубу на приближающиеся скалы и чему-то задумчиво улыбался.
Наутро мама повела сына к школьному психологу, которая после быстрого осмотра заключила: причина страха не только в богатом воображении мальчика, но и в нежелании взрослеть. «Нужно посмотреть своему страху в лицо – сказала она. – Так поступают все взрослые люди. Представь, что твое воображение – это вода в кране, которую ты можешь включить и выключить, когда захочешь».
Мальчик молчал всю дорогу домой и только за ужином стал что-то тихо нашёптывать. Мама, расслышав его слова, выронила из рук вилку. Сын наизусть повторял считалку, которую когда-то в детстве читал ему на ночь отец. «До чего же чуткая память у детей!» – подумала мама. Она вспомнила мужа и время, когда они вместе воспитывали сына, когда всей семьей ходили в гости, в кино, а отпуск проводили на море. Мама всегда опасалась, что не сможет воспитать ребенка в должной строгости, что сын её вырастет слишком изнеженным, несамостоятельным и не сможет противостоять трудностями. Мама подумала вдруг, что отец никогда не допустил бы пустых фантазий по поводу темноты и таящихся в ней ужасов. Нет, он бы не стерпел такого глупого поведения сына! Он бы нашёл, как справиться с этой нелепой боязнью – ведь он справлялся с любыми проблемами в их семье. А она, мама, слишком балует ребенка, слишком многое ему позволяет, потому что любит его теперь за двоих.
Несмотря на слёзы и уговоры мальчика мама уложила его спать при выключенном свете. «Если и сегодня увидишь своё привидение, завтра купим тебе новый шкаф», – пообещала она и, довольная своей твёрдостью, закрыл дверь в детскую.
Наутро, когда она зашла к сыну, свет был по-прежнему выключен. Дверцы шкафа были распахнуты, одежда разбросана по полу, а в центре комнаты стоял мальчик. Рот его напоминал чёрный ломаный круг, а его руки как будто кого-то обнимали.
Он смотрел внутрь себя.
5
В один из своих тревожных вечеров я распечатала очередное письмо Аиста. По привычке я ожидала найти внутри острую, белоснежную принтерную бумагу, а с ней новую сказку – страшную или смешную. Но вместо этого я увидела пачку старых тетрадных листов в клетку. Их было всего около двадцати, сплошь исписанных с обеих сторон. Крупный почерк под неправильным углом, оборванные кое-где края, жирные пятна, номера страниц, поставленные на полях простым карандашом… Изучив все листы поочерёдно, я тут же принялась перечитывать их во второй раз. Затем в третий и в четвёртый.
Это был не рассказ Аиста. Это были письма. И, судя по тексту, принадлежали они какой-то девочке. Это были довольно странные рукописи – в них не было ни дат, ни имён. Кроме одного – Вика, так звали автора. Из писем я узнала, что Вика жила с матерью и отчимом – им-то и были посвящены короткие, обрывистые записи. Это были семейные зарисовки, болезненно наивные и откровенные. Содержание их поразило, взволновало и возмутило меня настолько, что ночью я не смогла уснуть, а наутро отправилась к Аисту за объяснениями. Так я узнала о Вике Артемьевой – девочке, из-за которой начала этот рассказ.
Была суббота, потому Аист без стеснения отворил дверь и впервые пригласил меня войти. Миновав прихожую со светлыми обоями и шкафом без дверок, мы оказались в его комнате. Она напоминала кабинет серийного убийцы: стены обклеены стикерами, фотографиями каких-то людей, клочками исписанной бумаги. На двух письменных столах покоились папки с вырезками из местных газет и журналов – криминальные сводки, интервью, чьи-то снимки. Всюду были разбросаны пишущие предметы, тетради, огарки свечей.
– Это… это всё не моё, – сказал Аист, заметив в моих руках конверт. В его лице читалась странная эмоция, словно бы он одновременно оправдывался и гордился собой.
Я достала из конверта письма и протянула их Аисту. Он некоторое время смотрел на них, будто не узнавая, затем извлёк из-под дивана тёплую бутылку вина и открыл её.
– Разве я не рассказывал тебе о Вике? – спросил он.
Я помотала головой, даже не пытаясь вспомнить это имя среди наших бесконечных бесед. Но то, что Аист называет кого-то по имени, показалось мне тогда необычным.
– Это моя одноклассница. Она жила в твоей квартире давным-давно, ещё до твоего отца, – Аист сделал глоток из горла. – Знаешь, она писала мне письма. Редко, может, раз в месяц. В школе мне их отдавала, чтобы я дома прочитал, когда буду один. Говорила, что это большая тайна, и никто не должен знать, что в них написано. А потом…
Он замолчал, сделал ещё глоток и поморщился.
– Потом, – продолжил он, – она исчезла. Классе в восьмом, перед самыми летними каникулами. Последнее письмо она мне на лестнице в подъезде отдала. Отдала и сразу домой пошла – ничего даже не сказала. А через неделю к нам милиция заявилась – мол, у соседей ваших дочка пропала… Помню, в школе после этого много о Вике говорили. Говорили, говорили, а потом забыли. Будто бы это всё – просто так. Будто бы и не было ничего.
Он сказал, что до старших классов не вёл дневник наблюдений, так что в памяти его сохранилось не так уж много воспоминаний о Вике. Он помнил, что она была тихоней. Говорила мало и от неуверенности глотала слова. Во дворе не гуляла, после школы сразу спешила домой. При всей своей скромности Вика была по-детски красива, выглядела старше своих лет, чем вызывала насмешки в начальных классах. Учителя любили её и хвалили. Мать Вики после развода жила в гражданском браке с мужчиной, о котором Аист не мог вспомнить ничего, кроме усов. На уроках Вика сидела за первой партой. Аист мало обращал на неё внимания. Она была для него ничем не примечательной девчонкой по соседству. До тех пор, пока однажды не подложила ему в тетрадь запечатанный конверт.
Аист не знал, почему из всех одноклассников она выбрала именно его. В школе они почти не разговаривали – им просто нечего было сказать друг другу. Они были подростками – посторонними. Но с тех пор время от времени Аист находил у себя в учебнике, тетради, портфеле или даже почтовом ящике всё новые письма от Вики. А в них – новые события неизведанного, скрытого от чужих глаз мира, от которых ему становилось волнительно. Он будто подглядывал в замочную скважину. А может, в приоткрытую дверь, которую специально для него оставили незатворённой. Он не понимал, зачем Вика это делает. Зачем посвящает его в неприглядные, интимные подробности своей жизни. Он был ещё слишком мал и робок, чтобы открыто заговорить об этом, поэтому просто читал. Читал и ничего не отвечал. Он не был другом, не был собеседником. Он был только читателем. Верным и молчаливым.
– Я боялся себе признаться, – сказал он мне. – Тогда, давно… Я боялся себе признаться, что мне всё это нравилось.
– Что именно? – не поняла я.
– Да вообще всё это, – он указал на письма. – Знаешь, когда она в класс заходила… Я видел её – и сразу представлял все эти мерзости. Всё, что я читал в её письмах, – всё это сразу вставало перед глазами. Я представлял, что я, знаешь, делаю всё то, что с ней там делают… Нет, это не передать. Мне было стыдно за себя, за неё, за то, что я это про неё знаю. В то же время я как бы этим стыдом наслаждался. Не стыдом даже, а близостью этой внезапной. Поначалу я даже не мог понять, правда это или нет. Действительно ли она делится своими переживаниями, страхами, мечтами? А может, она просто выдумала всё это? Но зачем? В общем, я мучился тогда страшно, но заговорить с ней не смел. Я боялся даже подойти к ней. Боялся и хотел.
Он начал в подробностях рассказывать, как шла поисковая операция, как к ним в школу приходили люди в форме и расспрашивали про Вику. Никто ничего толком не мог ответить, потому что никто не дружил с ней. Вскоре после исчезновения Вики её мать и отчим съехали с квартиры – она пустовала несколько лет, пока в ней не поселился мой отец.
Аист показал мне вырезку двадцатилетней давности из газеты, которую отыскал в местной библиотеке и хранил теперь в одной из своих бесчисленных папок. В ней говорилось об исчезновении девочки – 14 лет, темноволосая, одетая в джинсы, белую футболку и джинсовую куртку с капюшоном. Последний раз её видели в загородном обществе «Родник», где располагался дачный домик её семьи. Фото девочки прилагалось.
Аист сказал, что никому не давал читать этих писем, даже милиции. Мне показалось странным, что спустя десять лет эта история всё ещё не давала ему покоя. Он усмехнулся.
– Я тогда глупый был, не понимал, – сказал он. – То есть понимал, конечно. Догадывался, что так не должно быть. Но всё равно ничего не делал. Мне не хотелось это прекращать, понимаешь? Мне хотелось и дальше читать её письма, узнать продолжение. Как в книге – ещё одну главу. Когда что-то написано на бумаге, всегда кажется, что это чья-то выдумка. А Вике… Ей помощь была нужна, только она не знала, как попросить. О таком ведь просто так не скажешь.
Аист закрыл папку с газетными вырезками и положил её обратно в тумбочку.
– У неё, когда она конверт-то мне отдавала на лестнице, уже тогда что-то в лице читалось, какое-то предчувствие. Она на меня даже не посмотрела, как будто боялась, что я начну расспрашивать. Перечитываю её письма – и всё мне кажется, что там разгадка есть… Как будто там сказано, куда она исчезла и зачем. Только ничего там нет.
Я пообещала Аисту подержать письма у себя, если ему от этого будет спокойнее. Не знаю, зачем я это сказала, ведь тогда его тревога и отчаяние были мне ещё неясны. Я плохо умела сопереживать. В то время мной владело только одно сильное чувство – тёмная скука без конца и края.
Чтобы сменить тему, я предложила Аисту показать мне коллекцию его газетных вырезок. Мы пили вино и много говорили о героях статей, чьи потёртые фотографии мелькали у нас между пальцев, как только мы перелистывали страницу. До того, как стать частью полосы, каждый из них что-то думал о себе и о других, о мире вокруг. У каждого из них было имя, возраст, лицо. Были какие-то планы – на день, на месяц, на годы вперед. Сообщения об их смертях, травмах, награждениях, скандалах терялись в потоке более ярких фактов и событий. Эти люди были чьими-то друзьями и родными, любимыми и нелюбимыми, чьими-то коллегами, соседями, сослуживцами. Мы не знали, как они жили раньше и живы ли до сих пор. Не могли знать. Но было чувство, что мы кончиком пальца касались чьей-то далёкой жизни.
С того дня письма Вики Артемьевой стали моей настольной книгой. Это случилось как-то само по себе. Каждый день я словно бы случайно перечитывала тот или иной отрывок. Я не признавалась себе, но в глубине души смаковала мерзкие, отвратительные детали этого наивного рассказа. Мне казалось, что девочка, десять лет назад жившая в квартире моего отца, снова появилась здесь и стала разговаривать со мной со всей откровенностью, нежностью и простотой подростка.