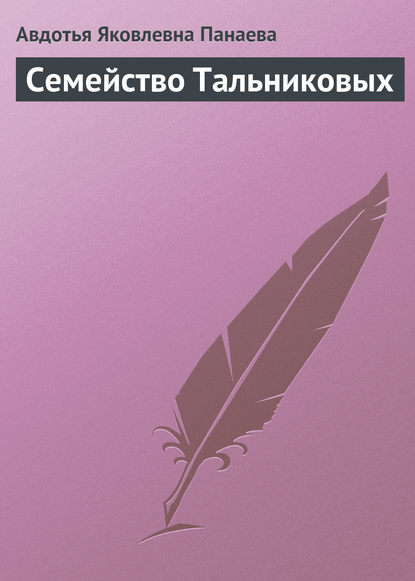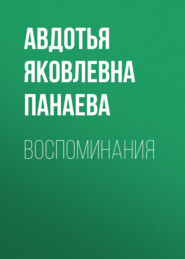По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семейство Тальниковых
Год написания книги
1848
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что же ты не бросила земли своей бабушке? Видишь, все бросают!
– Оставь меня! Я не хочу бросать червей в могилу к бабушке.
– Вот! Не все ей равно – одним больше, одним меньше! – подхватила другая старуха с отвратительным смехом.
– Если не бросишь, так твоя бабушка сегодня же ночью придет к тебе в саване и…
Не дослушав страшных слов старухи, я в испуге бросила в могилу цветы, вырвала свою руку и побежала за матерью. Старухи провожали меня смехом, похожим на воронье карканье.
Прибежав к церкви, я была тотчас втиснута в карету, уже наполненную братьями и сестрами. Мать спросила у сидевшей с нами девушки: «Все ли тут?», та отвечала: «Все-с», и потом уже начала пальцем считать нас; по счету оказалось восемь, то есть ни больше, ни меньше того, сколько нас было… Мы двинулись, но, сделав несколько сажен, карета должна была остановиться. Навстречу несли маленький гроб; за ним в изнеможении, спотыкаясь, бежала бледная женщина. Она ломала руки и кричала, как будто желая остановить шествие. В первый раз в жизни видела я такое сильное отчаяние и очень удивилась, как можно так горько плакать о маленьком ребенке, вспомнив смерть своей сестры, о которой никто не плакал. Маменька кстати поспешила меня вывести из затруднения своим замечанием.
– Вот дура! О чем плачет, – сказала она вслед рыдающей женщине. – Какой клад потеряла. Видно, первый! Дала бы я ей столько!.. – И тут она выразительно показала головой на нашу карету и потом сердито закричала нашему кучеру: – Болван! Что стоишь?
Кучер вздрогнул от неожиданного приветствия, и, как чрез электрический удар, его испуг разрешился на костлявых боках лошадей, которые, вздрогнув в свою очередь, благополучно двинулись после двух или трех отчаянных усилий… Дорога показалась мне очень коротка; каждый из нас рассказывал свои впечатления и похождения на кладбище: кто говорил про червей, кто про покойников, которых было в тот день довольно много.
Мы приехали домой. Комнаты наши совершенно изменились. Вместо гроба я увидела длинный стол, отягченный разного роду бутылками. Гостей было очень много; скоро все уселись за стол, кроме детей, которым не оказалось места, потому что за наш стол усадили дьячков. Начали подавать кушанье.
Тишина воцарилась страшная, так что я выглянула из другой комнаты, чтоб узнать, не опять ли хотят заколачивать гроб бабушки. Но меня успокоили довольные лица гостей, вместо гроба – бутылки, вместо запаху ладана – приятный запах ухи и огромной кулебяки. Обедали много и долго, так что мне даже стало скучно смотреть, как всё жуют да жуют, а медленное покачивание отуманенных голов наводило на меня уныние…
Несмотря на трехдневный страх, я провела время похорон приятно, потому что я в первый и последний раз в моем детстве чувствовала себя свободной, вероятно по той причине, что никто не думал о моем существовании…
Глава II
Нежность маменьки скоро истощилась: она в тот же день простилась с тетенькой Александрой Семеновной очень холодно, а утром сердилась на нее за беспорядки в кухне и детской. Тетенька, не дожидаясь шести недель, вступила в права наследства, которое состояло из образа, старого салопа и двух пуховых подушек. Взамен нежности и участия маменька дала ей неограниченную власть в детской и ограниченное управление в кухне.
Скоро произошли у нас большие перемены. Мать нашла излишним видеть детей в зале и в своей комнате, потому вход туда был нам запрещен под строжайшим наказанием. Даже десятилетний обычай был отменен: мы более не прощались с отцом и с матерью. «Дети, – говорила она, – и без того надоедят в течение дня, да и здоровье не позволяет мне возиться с ними!» И, может быть для поправления расстроенного здоровья, она просиживала не только целые дни, но и ночи напролет за картами. Страшно было приближаться к ней иногда: ночь без сна, значительный проигрыш до того раздражали ее, что она нередко сама отменяла утреннее целование руки, страшась за последствия. Отец был недоволен страстью жены своей к картам. Частые ссоры из-за денег больше и больше ожесточали маменьку против детей. Для успокоения своей совести она даже принялась вести счеты, из которых отец ясно мог усмотреть, что страсть к игре стоит ей какие-нибудь сотни в год, а на детей идут тысячи. В самом же деле было наоборот. Утро было особенно тягостно для всех в доме. Повара бранили за то, что он не умел сотворить чуда – накормить двадцать пять человек тем, что едва доставало для десяти. Тетеньке доставалось за все: за неисправность прислуги, за то, что гости выпили много вина, за детей, которых она в тот день не видала в глаза; словом, мать кричала и наказывала не по мере надобности, а по мере проигрыша… По какому-то предопределению я всегда попадалась под первые порывы ее раздражительности. Раз, заметив меня в зеркало, перед которым тетенька чесала ей голову, она потребовала меня читать по-русски. Чтение началось; за каждую ошибку я получала толчок то в голову, то в спину. Слезы мешали мне читать, и я, как назло, делала ошибки на каждом слове. В бешенстве она, наконец, ударила меня так сильно по руке, лежавшей на книге, что книга полетела вверх, а рука моя хрустнула и, как гиря, спустилась вниз. Я взвизгнула и побледнела от боли.
Отец явно обрадовался горячности своей жены: он сам был удален от управления домом и детьми за свою вспыльчивость, а притом теперь ему представился случай попрекнуть жену страстью к игре, производящею такие последствия. Он начал осматривать и вытягивать мою руку; я горько плакала… Наконец он велел мне итти в детскую; я пошла, освободившись таким образом от чтения, но боль не помешала мне, уходя, слышать их разговор:
– По-вашему, ей не нужно учиться читать?..
– Да что ж за толк, если ты выучишь ее читать, а писать ей будет нечем?
Тут мать начала говорить очень скоро, и когда я подходила к детской, разговор их превратился в крики и слезы.
Этот-то роковой случай решил нашу участь. Родители положили нанять нам гувернантку. К несчастию, случай скоро представился. Одна знакомая дама отказала своей гувернантке за излишнюю грубость с детьми. Несмотря на страшное стеснение корсетом, которому подвергалась добровольно, с примерным самоотвержением, эта двадцатичетырехлетняя девица, говорившая, что ей двадцать один год, любила в обращении с детьми полную свободу: уши бедных малюток были всегда в крови; она нарочно отращивала себе средний ноготь и стригла его остроконечно, чтобы невинное наказание было чувствительней. Если корсет мешал ей поднять высоко руку, то она приказывала жертве становиться на колени, тянула за ухо или за волосы кверху и требовала, чтоб жертва приседала вниз. За ослушание наказание увеличивалось. Она брала линейку и делала наперед такое условие: если хорошо будешь подставлять ладонь, получишь десять ударов, если станешь хитрить – двадцать.
Примерная строгость и одинаковый взгляд на воспитание покончили дело очень скоро: она была нанята за четыреста рублей ассигнациями в год учить всему, чему хочется, смотреть за нравственностью, как заблагорассудит, наказывать сколько душе угодно и как угодно; даже ей предоставлялось право, если окажется нужным, требовать на помощь лакея при наказании братьев, которые были довольно сильны… Для представления гувернантке нас вымыли, вычесали и приодели. Меня представили как лицо подозрительное, требующее неусыпного надзора и особенной строгости, выражаясь так:
– Она совершенный мальчик, даже все с ними играет, а уж какая ленивица! Как за книгу, так и в слезы!
Гувернантка успокоила мать надеждой на мое исправление, сказав мне:
– M-lle Nathalie, вы должны исправиться, а не то я буду наказывать вас вместе с мальчиками.
Физиономия гувернантки никому из нас не понравилась. Ее рыжие волосы были убраны с необыкновенной тщательностию, ее карие и злые глаза то быстро перебегали, то останавливались на одном предмете, как бы желая проникнуть его насквозь; ее большой рот беспрестанно улыбался, что придавало ее большому и круглому лицу, поминутно краснеющему и покрытому бесчисленным множеством веснушек и каким-то белым порошком, выражение злое и приторное. Талия ее превышала всякое вероятие: она была до того стянута, что ее плечи, довольно толстые и широкие, изобильно покрытые коричневыми веснушками, совершенно багровели и уподоблялись кускам сырой говядины.
Костюм ее был так же неприятен, как она сама. Ее руки, белые и мягкие, были обезображены синими ногтями и бесчисленным множеством колец и перстней, в которых, по тщательному разысканию одной из тетушек, изумруды и рубины оказались поддельными. Впрочем, такое открытие нисколько не помешало их дружбе; разные секреты и одолжения по части туалета совершенно погасили на время враждебные ощущения, возникшие в тетушках по поводу французского языка, знание которого составляло преимущество гувернантки. Мы заметили, что лица у тетушек также вдруг побелели…
Что касается до нас, то прежде всего мы превратились из Сони, Кати, Наташи – в Sophie, Catherine, Nathalie, a братья – в Jean, Michel и т. д. Тетенек гувернантка называла ma chere;[1 - Моя дорогая (ред.).] они начали называть ее тоже ma chere.
– Ma chere, Catherine надо сегодня наказать.
– Хорошо, ma chere, я оставлю ее без гостинцев, которые сегодня обещаны.
Наказания были так рассчитаны, что гувернантка и тетушки всегда получали двойную порцию пирожного или десерта… Нам же приказано было звать гувернантку: Mademoiselle. Во французском языке мы оказали быстрые успехи: Permettez-moi sortir, – pardonnez moi,[2 - Разрешите мне выйти, – простите меня (ред.).] – последнее я очень скоро заучила.
Нашу свободу еще больше стеснили. Детей всех заключили в одну комнату; другая, смежная с ней, превратилась в классную, в швейную, в спальню трех тетушек и гувернантки и в столовую. (Нужно заметить, что ни мы, ни тетеньки за общим столом со смерти бабушки не обедали.) Входить туда в неклассные часы нам запрещалось… Комната, куда нас запрятали, была очень мала для восьми человек детей, что, однакож, не помешало сделать в ней антресоли, куда складывали грязное белье со всего дома, разный хлам, детский гардероб, очень не пышный. Но взамен его там поместилось такое множество тараканов, что в комнате никогда не могла воцариться полная тишина: как скоро шум смолкал, явственно слышался глухой, таинственный шорох, напоминавший поэтическое трепетание листьев, колеблемых ветром. Горе забыть там что-нибудь съестное, тотчас все пожиралось хищными усачами… С самого дня рождения ребенка кормилица поселялась с ним на антресолях, в обществе прачки, имевшей обычай напиваться до чортиков. Мать шесть недель не видела ребенка, ссылаясь на то, что перемена воздуха для ребенка вредна, а ей взбираться вверх по лестнице не позволяет здоровье… Дочерей она особенно не любила, рассуждая так:
– Мальчик подрос – и с глаз долой, а девчонку держи, пока замуж не выйдет, да кто и возьмет-то? У отца ничего нет, а уж на лицо никто не польстится… И не знаю, в кого они такие родятся? Отец недурен, мать, кажется… – Тут она останавливалась, давая время договорить какой-нибудь знакомой, нуждавшейся в ее помощи. И когда та замечала, что «вы, матушка Марья Петровна, можно сказать, королевна, и уродись в вас дочки-то ваши, их бы с руками оторвали без приданого», она заключала – Да-с, нечего сказать, наградил бог уродами… Если б вы видели, какие у них ноги… ужас! По крайней мере с мои…
Надо заметить, что у самой у ней ноги были чрезвычайно огромны и безобразны, и потому, говоря о ком-нибудь, она обыкновенно начинала с ног, нападая на них с непомерным ожесточением, особенно если они были недурны, а потом уже доходила до головы; вообще она не любила пропускать ничего, перебирая недостатки своих дочерей с таким наслаждением и восторгом, как иная нежно любящая мать говорит о достоинствах детей своих, не пропуская ни одного самого незначительного и даже в избытке горячности изобретая небывалые… Если кормилица сходила вниз, то ей выговаривали, зачем она толкается по всем комнатам, и запрещали сходить вниз без зова.
Само собою разумеется, что при таком порядке вещей за больными детьми ухаживали очень плохо.
Раз в зимний вечер мы сидели на антресолях, освещенных ночником, устроенным в помадной банке, куда налито было постное масло с поплавком. Стоны больного ребенка, смешанные с разным бредом тут же спавшей прачки, невольно заставили нас прекратить игру в дурачки и заговорить о больном брате.
– Что, если он умрет?.. Ведь будет страшно сидеть на антресолях!..
Вдруг раздался в углу на кровати какой-то странный крик. Вздрогнув, мы оглянулись и видим прачку, которая, с растрепанными короткими волосами, с бледным лицом, вся дрожа, приподнималась с кровати. Мы испугались и назвали ее по имени. Она вскочила и, кинувшись к нам, закричала:
– Прочь, черти! Вы хотите меня задушить!
С шумом и воплем мы побежали к лестнице, опрокинули ночник и не сбежали, а почти скатились вниз. На крик наш прибежали нянька и кормилица и, расспросив нас, отправились на антресоли. Там все было вверх дном. Подушки на полу, скамейка опрокинута, наши салопы на полу… Заглянули в люльку и нашли брата в страшных конвульсиях. Через пять минут страдания его прекратились. Бедного ребенка, вероятно, испугали…
Мать сидела в то время за картами, и когда ее известили о смерти сына, она, к общему удивлению, начала кричать и плакать. Приказано было как можно скорее хоронить ребенка, потому что сердцу матери зрелище смерти родного детища еще тягостней его страданий… С воплями удалилась она к себе, но ненадолго… На другой же день к вечеру ребенка похоронили очень просто и тихо, и если над ним проливались слезы, так разве слезы сестер и братьев, поссорившихся за какую-нибудь игрушку и поколотивших друг друга. Похороны происходили обыкновенно таким образом: нанималась карета; приходили докладывать отцу и матери, не угодно ли им проститься с телом? Мать переносила такие тяжкие минуты с удивительным спокойствием, делающим честь ее твердости, и оканчивала сцену очень скоро. Она подходила к гробу, крестила ребенка и небрежно целовала его в лоб, говоря: «Бог с ним! Не о чем плакать; довольно еще осталось!..» Впрочем, она могла бы и вовсе не произносить утешительных слов, потому что на лицах присутствующих ясно выражался запас мужества, достаточный для перенесения такой утраты. Отец, не любивший сидеть дома, не всегда бывал при выносе тела.
Таким образом умерло и схоронено три сестры и один брат…
Глава III
Гувернантка очень скоро обнаружила систему воспитания, совершенно согласную с требованиями наших родителей, и тем заслужила полное их расположение. С ее вступления детского смеха вовсе не было слышно, а наши беспрестанные слезы доказывали, что люди, которым нас вверили, неусыпно пекутся о нашей нравственности и спокойствии родителей… Дух угнетения был сильно развит в гувернантке; может быть, она хотела применить к делу систему тирании, в которой сама была воспитана, – и нельзя сказать, чтоб семена упали на бесплодную почву. Никакая шалость не ускользала от ее зорких глаз; с непонятным терпением разыскивала она преступника, и если ей не удавалось открыть его по разным признакам и допросам, она покорялась воле судьбы и равно наказывала правого и виноватого. Случалось, меньшие братья, запуганные угрозами и толчками, выдавали старших: тогда наступал для нее истинный праздник… Но средства не всегда позволяли ей удержаться до конца на приличной высоте. С величием объявив приговор, она иногда сама нисходила до роли палача… Потом из палача она превращалась в нашего шпиона, но иногда дорого платилась за унизительную роль свою: заметив с антресолей ее приближение, мы старались завлечь ее нашими разговорами, спрашивая друг друга: что будет на том свете тому, кто подслушивает? – «Сожгут на медленном огне». – «Нет, колесуют». – «Вытянут жилы!» И потом на голову гувернантки лилась вода, летела целая туча пуху из распоротой подушки… Разумеется, удача сопровождалась хохотом, который выдавал нас догадливой наставнице. Стыд мешал ей приступить тотчас к расправе, но при случае мы дорого платились ей за минутное торжество. Впрочем, старшие сестры розгам не подвергались. А брат Миша часто избегал наказания своей отвагой и силой. Если ж удавалось его наказать, он всячески мстил гувернантке и тетушкам, к неописанной нашей радости: грубил им, смеялся над ними, – так что, наконец, они стали его бояться и избегали с ним ссор… Я же и остальные братья расплачивались за всех, подвергаясь всевозможным наказаниям, без границ и разбору. Расправе обыкновенно посвящался седьмой день; между виновными кстати наказывались и невинные в зачет будущих преступлений.
Прочитав молитвы, мы садились за ученье в девять часов утра; в час ученье оканчивалось; приносили завтрак, которого мне почти никогда не приходилось попробовать. Я была охотница передразнивать, и передразнивала так удачно, что, застав меня врасплох, тотчас догадывались, кого я хотела представить, а иногда гувернантка, любившая доказывать свое усердие числом наказанных, ни с того ни с сего обращалась ко мне и извещала, что я сегодня без завтрака. В утешение себя я отвечала вполголоса, что «сама не хотела есть», а пришед на антресоли, брала квасу, хлеба и соли и наедалась из опасения, чтоб не оставили еще и без обеда. И часто опасение мое оказывалось основательным…
После обеда часа в четыре мы снова садились учиться. Во время класса учить уроков нам не позволялось. Мы писали по диктовке, а всего чаще читали священную историю. Один читал вслух, остальные слушали. Время от времени гувернантка неожиданно приказывала продолжать другому, и малейшее замешательство влекло за собой строгое наказание. Виновному приходилось выстоять на коленях весь класс, продолжавшийся до семи часов… Гувернантка сама тяготилась продолжительностию классов, потому что нелегко самому гениальному наставнику занять детей часов десять в сутки; но маменька, предоставив нас в совершенное распоряжение гувернантки, одного строго от нее требовала взамен беспредельной доверенности – ежеминутного пребывания при детях… В будни она решительно не позволяла ей выходить со двора, а тетеньки, как два дракона, стерегли нашу наставницу. Если она кончала класс десятью минутами раньше, они делали ей замечание и грозились сказать маменьке…
Гувернантка любила военных, и так сильно, что решительно не могла противиться своей страсти. Заслышав полковую музыку, завидев офицерские эполеты, она тотчас бросалась к окну. Иногда офицер, вероятно не подозревая в ней наставницу стольких детей, делал ей ручкой, – тогда она возвращалась к столу вся красная и долго не замечала беспорядков, возникших в ее отсутствие… Но тетеньки, которые постоянно сидели в той же комнате и потихоньку за нами подглядывали, тотчас всё ей пересказывали, язвительно намекая на ее слабость к офицерам. От намеков дело доходило до колкостей, за которыми градом сыпались взаимные упреки: притиранья, кокетство, виды на замужство, тайные помыслы и невинные хитрости – ничто не забывалось в такие минуты. Крик был страшный – говорили все вместе, – движения резкие, странные. Чтение прекращалось; мы слушали с напряженным вниманием, но к великой нашей досаде являлась тетенька Александра Семеновна и разнимала разгоряченных дев… Но долго еще время от времени перекидывались они ругательствами и злобными взглядами. Так после сильного пожара из почерневшей массы вдруг взовьется пламя, осветит на минуту страшное разрушение, а там опять все покроется мраком, до новой вспышки пламени в другом месте…
В такие дни мы могли шалить и грубить тетушкам безнаказанно; гувернантка даже поощряла нас. Впрочем, примирение их совершалось очень скоро и просто, без всяких объяснений и извинений. Они знали, что не остались друг у друга в долгу и, наскучив молчать и дуться, тотчас возвращались к любимым своим разговорам, секретам и планам и снова дружно, соединенными силами преследовали детей… Тетенька Александра Семеновна, занятая по хозяйству, не имела времени участвовать в наказании своих племянников и племянниц… да, вероятно, и не хотела: она была добра и, кажется, любила нас… Но сестры матери не могли не ожесточиться против ее детей: сидячая жизнь, заключенная в одной комнате, чуждая всякого разнообразия, вечное шитье, вечные сплетни – такая жизнь может ожесточить даже самых кротких девиц, а тетушкам было уже за 25 лет, и надежда на замужство согревала их сердца с каждым днем слабее. Правда, по праву старого знакомства, к нам в детскую ходили мужчины, но до того бедные и жалкие, что даже тетеньки не решались на них рассчитывать. Исключение оставалось только за молодым человеком по имени Кирилом Кирилычем. Высокий, худощавый, с длинным носом, с красным лицом, с глазами кролика (за исключением простодушного выражения), с длинными белокурыми волосами, – он не отличался особенной красотой, но ловкость, любезность, хорошее состояние с избытком заменяли недостаток красоты. Сердца тетушек, и без того легко воспламенявшиеся, запылали… Даже маменька оказывала Кириле Кирилычу особенное внимание, которое не укрылось от ее сестриц и гувернантки, а следовательно, и от нас: мы с своих антресолей постоянно наблюдали кокетство тетушек и гувернантки и подслушивали их дружеские разговоры, в которых мы играли важную роль. Каким образом?.. В стене над печкой, почти под самым потолком, открыли мы маленькую щель; понемногу я сделала из нее отверстие вроде слухового окна и, забравшись в промежуток между печкой и потолком, не только слушала, но и все видела, что делали в другой комнате наши враги… Мы довольно долго наслаждались нашим изобретением, употребляя иногда выражения, подслушанные у тетушек, которые в таких случаях быстро переглядывались, спрашивая глазами друг друга: «Откуда они все это знают?» Но, наконец, наблюдения наши прекратились, и очень печальным образом!
Раз как-то, отправляясь на печку, я неосторожно подняла пыль, которая предательски бросилась мне в горло и в нос, как будто желая отмстить за нарушение ее спокойствия. Я крепилась, жмурилась, но, к ужасу моему, вдруг громко чихнула. Говор затих внизу, – я могла бы еще спастись, но, к несчастью, одним разом не кончилось: я чихнула еще, потом еще, и когда, наконец, я успела освободить из засады половину своего тела, мне уж не пришлось заботиться о другой: за меня трудилась гувернантка, которая впилась в мои уши, как бульдог. Я очутилась в детской, окруженная яростными тетушками, которые хором бранили меня. Когда первый порыв негодования прошел, гувернантка поставила меня на колени, не приказав давать мне ни чаю, ни ужина, а между тем я в тот день была без обеда и очень рассчитывала на ужин. Спать меня также не отпустили: я простояла на коленях до двух часов ночи. Наконец гувернантка отпустила меня спать, пообещав завтра новое наказание. С мучительной болью я встала с колен и насилу дошла до детской; здесь царствовала тишина, братья и сестры крепко спали… Мне стало тяжело, рыдания мои разбудили брата Ивана. Он достал из-под подушки кусок хлеба, тихонько сунул мне его в руку и сказал:
– Ешь поскорее, Наташа! Пожалуй, рыжая опять придет нас обыскивать!
– Как же ты, Ваня, спрятал его?
– Я его положил себе в сапог. Ведьма пришла нас обыскивать, не спрятали ль мы чего-нибудь для тебя; но осталась с носом. Понюхала, слышит: пахнет где-то хлебом, а где? – не может найти.