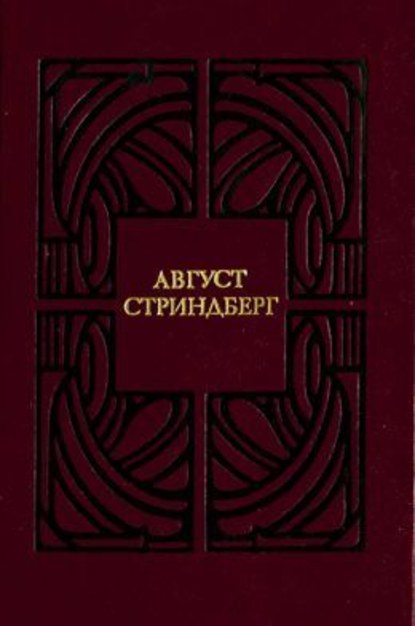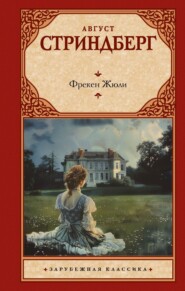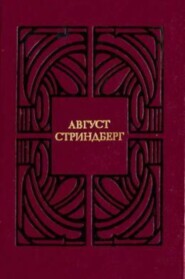По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одинокий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что, что? Да, да, непременно! Будет сделано!
Тут он повесил трубку.
Сцена эта должна была означать: получен крупный заказ. Но сыграл он ее плоско, без необходимых оттенков. Невинная в общем затея, но меня рассердило, что малый этот дурачит меня, да и надоело ждать, поэтому я хмуро принялся изучать фирменные этикетки. Хоть я и не очень-то разбираюсь в винах, но все же у меня давно отложилось в памяти: марка «Круз и сыновья» гарантирует, что перед тобой – настоящее французское вино. Увидев здесь эту марку, я удивился появлению бордоского в бакалейной лавке и, решив кутнуть, купил одну бутылку вина за баснословно низкую цену.
Дома же сделал я ряд открытий, вследствие которых решил ничего больше не покупать в этой лавке, – пусть я и не пострадал в этот раз. Прежние отменные финики хозяин перемешал с другими – старыми и жесткими, как дерево, а вино, хоть на бутылке и стояла фамилия Круза, могло быть из каких угодно подвалов, может, даже самого Робинзона Крузо, но только не «Круза и сыновей».
С тех пор я вообще не видел, чтобы кто-нибудь заходил в эту лавку. И тут-то и началась трагедия. Человек в самом расцвете сил, жаждущий дела, оказался осужден на праздность, а стало быть, и на гибель. Он пытался сражаться с напастью, с каждым часом придвигавшейся все ближе. Неустрашимость его дала трещину и сменилась каким-то нервозным упрямством; я видел, как за стеклом витрины, будто призрак, мелькало его лицо – он высматривал клиентов, – но вскоре он начал прятаться. Тяжело было видеть, как он в страхе скрывался за свою арку, страшась всего на свете, даже прихода клиентов: что, если снова кто-то придет полистать адресный справочник? Жестокий миг – ведь клиента надлежало встретить любезной улыбкой. Еще в первые дни торговли хозяин застиг своего продавца на том, как тот брезгливо швырнул адресную книгу какому-то благообразному пожилому господину. Обладая несколько большим житейским опытом, чем его юный помощник, владелец лавки сделал пареньку выговор и объяснил: сперва люди приходят в лавку за марками и адресной книгой, а уж потом становятся ее клиентами; жаль, сам он не усвоил той истины, что лучшая реклама – это добротный товар, а обманом только себя самого подведешь.
Крах приближался. Все муки хозяина лавки сделались моими муками; я страдал, размышляя, каково же придется его жене и как он оплатит квартальный взнос, аренду и векселя. Под конец мне стало уже невмоготу проходить мимо его витрины, и я всякий раз выбирал другой путь. И все равно мне не удавалось о нем забыть – так скорбно отдавался в моей стене звон его телефона, даже по ночам. И всякий раз слышал я скорбные причитания, долгий, нескончаемый плач о жизни, сломленной в самом зачатке, плач надежды и отчаяния, что нельзя начать все сначала… да где-то ждала его жена с нерожденным младенцем в утробе.
Легче не становилось оттого, что он сам был повинен в своем несчастье. А впрочем, неизвестно, он ли был в нем повинен. Всем этим мелким уловкам, что в обиходе у торговцев, хозяин лавки выучился у своих наставников и не видел в них ничего дурного. Недомыслие! Вот причина, но никак не вина.
Порой я спрашивал себя: мне-то что за дело до всего этого? Но может, так и нужно – чтобы над тобой довлело чужое горе, и оно неизбежно настигнет тебя всякий раз, когда, окопавшись в уединении, ты захочешь спрятаться от него.
Наконец, жребий торговца свершился. Признаться, я вздохнул с облегчением, когда на дверях лавки повесили замок и все было кончено. Но когда вновь отперли дверь и принялись опустошать шкафы, освобождать полки и вывозить всю эту груду товаров, по большей части уже попорченных, то казалось, будто мы присутствуем при вскрытии трупа. Я был знаком с одним из грузчиков и, поднявшись в лавку, прошел в заднюю комнату за аркой. Вот здесь молодой хозяин лавки бился с судьбой. Дабы убить время и уйти от пытки полного безделья, он без конца выписывал липовые счета. Бумажки эти по-прежнему валялись в задней комнате, а выписывались они на имя князя Гогенлоэ [2 - ГогенлоэХлодвиг Карл Виктор (1819 – 1901) – князь Шил-лингфюрст, германский государственный деятель и дипломат.], Феликса Фора и принца Уэльского. Принц будто бы купил 200 килограммов «русского» мармелада и ящик бутылей с острым индийским соусом.
Любопытно, как в мозгу этого человека поездка Феликса Фора в Россию [3 - Феликс Фор (1841 – 1899) – французский государственный деятель. С 1895 по 1899 г. – президент Республики. Будучи сторонником союза с Россией, Ф. Фор принимал в 1896 г. русского царя Николая II в Париже, а в 1897 г. с ответным визитом посетил Петербург.] слилась с рассказами об англо-индийской кухне, которую держал в своем доме принц Уэльский.
Валялась здесь также пачка написанных от руки объявлений о продаже «превосходной» икры, «превосходного» кофе, – словом, превосходным провозглашался весь товар, да только ни одно объявление так и не было напечатано.
Я понял, что человек, стоявший за конторским столом, вынужден был разыгрывать эту комедию ради своего помощника. Бедняга! Жизнь, однако, – вещь долгая и изменчивая, и как знать, может, человек этот еще и выплывет на поверхность!
III
Вот что такое, в конечном счете, одиночество: закутаться в шелковый кокон своей души, обратиться в куколку и ждать превращения, а уж оно не преминет наступить. Пережитое служит тебе пищей, да и к тому же в силу телепатии ты живешь жизнью других людей. Смерть и воскрешение, новая школа для нового, неведомого бытия.
В одиночестве, наконец, ты сам себе господин. Никто не контролирует твоих мыслей, а, стало быть, чужие вкусы и прихоти не давят более на тебя. В этой заново обретенной свободе расцветает душа, и наполняет ее отныне умиротворенность и тихая радость, чувство уверенности и полной ответственности за себя.
Когда же я вспоминаю свою совместную жизнь с кем бы то ни было, о которой принято говорить, что это и есть школа нравственности, – нынче она представляется мне исключительно школой порока. Быть принужденным постоянно наблюдать уродство – пытка для человека, наделенного чувством прекрасного, и он ошибочно начинает почитать себя мучеником. Но если учтивости ради начнешь притворяться, будто не замечаешь дурного, – сделаешься лицемером. А привыкнув, ради все той же учтивости, всегда подавлять собственное суждение, станешь трусом. И наконец, если ради мира в семье ты станешь брать на себя вину за проступки, в коих совсем неповинен, это неприметно унизит тебя, так что вскоре и сам начнешь почитать себя дрянью; да если человек ни разу не слыхал ни от кого доброго слова, он и вовсе может утратить мужество и всякую веру в себя, а вечно сносить последствия чужих прегрешений – от одного этого можно возненавидеть людей, а с ними и все мироздание.
Но всего хуже другое: даже будучи преисполнен самых добрых намерений, ты уже не хозяин своей судьбы. Сколько бы ни тщился я быть во всем безупречным, какой от этого прок, если мой спутник чем-то замарает себя? Половина позора, если не весь позор, падет на мою голову, как оно всегда и бывает. Вот и выходит, что, деля жизнь с другим человеком, ты вечно живешь в тревоге, ведь ты куда больше уязвим, обнажен перед толпой стараниями самого близкого тебе существа и вечно зависишь от чужих непредсказуемых поступков. А тем, кто не мог подобраться ко мне, когда я был одинок, теперь ничего не стоит вонзить нож в мое сердце, коль скоро я доверил его другому, и тот человек повсюду таскает его с собой – на улицу и даже на базарную площадь.
И еще одно благо даровало мне одиночество: я сам распоряжаюсь отныне моим духовным пайком. Мне нет больше нужды лицезреть врагов в своем доме, за семейным столом, и молча выслушивать, как они поносят все самое для меня святое; и я не обязан у себя в квартире внимать звукам музыки, которой не выношу; точно так же избавлен я от необходимости повсюду натыкаться на газеты с карикатурами, высмеивающими моих друзей, а порой и меня самого, и свободен от обязанности читать книги, которые не ставлю ни в грош, да еще и ходить на выставки и восхищаться живописью, которую презираю. Словом, я хозяин своей души во всех случаях, когда человек имеет на это право, и я сам решаю, что мне любить, а что ненавидеть. Никогда не был я тираном, желая лишь одного – чтобы меня не тиранили, но этого-то и не терпят люди, склонные к тирании. Зато я всегда ненавидел тиранов, а уж этого они нипочем не прощают.
Всю свою жизнь я стремился вперед и ввысь и этим был прав перед теми, кто старался совлечь меня вниз, и вот почему я сделался одиноким.
***
Первое, к чему побуждает одиночество, – это разобраться с самим собой и со своим прошлым. Долгая это работа, в неустанном борении с собой, и долгая наука. Зато и нет науки благодарней, чем познать самого себя, если только это возможно. Порой не обойтись без помощи зеркала, особенно чтобы рассмотреть себя сзади, иначе ведь и не узнаешь, как выглядишь со спины.
Я начал это разбирательство лет десять назад, когда впервые познакомился с Бальзаком. Читая один за другим все пятьдесят его томов, я не замечал того, что совершалось во мне, пока чтение не подошло к концу. И тут оказалось, что я уже нашел себя и сумел обобщить все противоречия моей жизни, доселе мнившиеся неразрешимыми. К тому же, привыкнув разглядывать людей в его бинокль, я научился смотреть на жизнь обоими глазами, тогда как прежде видел ее сквозь свой монокль – одним глазом. И этот великий волшебник внушил мне не только смирение, своего рода покорность жребию или провидению, смягчившие боль от самых тяжких ударов судьбы, но и неприметно одарил меня серой, которую я хотел бы назвать неортодоксальным христианством. В ходе путешествия, в какое увлек меня Бальзак, этого странствия сквозь его человеческую комедию, наградившего меня знакомством с четырьмя тысячами персонажей (некий немец всех их пересчитал!), я словно жил другой жизнью – много шире, богаче моей собственной, – так что в конце путешествия мне показалось, будто я уже прожил целых две человеческих жизни. Но, окунувшись в мир Бальзака, я стал по-иному смотреть на мой собственный мир и после многих кризисов и рецидивов в некотором роде смирился с болью, и мало того, еще и открыл для себя, что в огне страданий и скорби сгорает дотла душевный мусор; облагораживая инстинкты и чувства, пламя умножает силы души, воспарившей над измученным телом. С этой поры я уже глотал горькие пилюли, какие преподносила мне жизнь, как целебное средство, и считал своим долгом выстрадать все – кроме унижения и рабства.
Одиночество вместе с тем обостряет впечатлительность человека, и если прежде я защищался грубостью от страданий, то ныне я стал, более чувствителен к чужой боли, сделался чуть ли не игрушкой внешних влияний, только, разумеется, не дурных. Дурные влияния лишь отпугивали меня, и я еще больше замыкался в своем одиночестве. Я стал искать места уединенных прогулок, где заведомо встретишь лишь мелкий люд, прохожих, которым я незнаком. Есть у меня свой особый маршрут – Via dolorosa [4 - Скорбный путь (ит.)] прозвал я его, – который я выбираю в пасмурные дни. Это северная оконечность Старого города – широкая улица, окаймляемая с одной стороны вереницей домов и лесом – с другой. Но чтобы туда добраться, надо пройти переулок, который мне чем-то особенно мил, хоть,
по совести, я и не скажу, чем он так околдовал меня. В самом низу тесного переулка, возвышаясь над ним, стоит огромная церковь – она и осеняет и затеняет его, – но не она привлекает меня, ведь я никогда не бываю в церкви, потому что… не знаю сам почему. Там же, справа, расположена контора пастора, куда однажды, много лет назад, я ходил насчет оглашения предстоящего моего брака в церкви. Но там, у северной оконечности Старого города, где улица выводит тебя к вересковым зарослям, высится дом. Величественный, будто дворец, стоит он на скате последнего холма, и из него открывается вид на море и шхеры. Этот дом много лет занимал мои мысли. Я мечтал поселиться в нем и внушил себе, будто там живет человек, от которого прежде зависел, а может, и ныне зависит мой жребий. Дом этот виден мне из моей квартиры, и день за днем я неотвязно разглядываю его в час, когда он весь озарен солнцем, но также по вечерам, когда в нем зажигают огни. А когда я иду мимо, что-то дружелюбно-участливое проступает в облике дома, и всем существом я отзываюсь на это, и кажется, жду не дождусь того дня, когда мне дозволят обрести здесь и кров и покой.
Дальше я иду по широкой улице, куда вливается тьма переулков, и каждый из них будит во мне отзвуки прошлого. Я иду гребнем высокой горы, и переулки сбегают отсюда вниз, но иные где-то на полпути выгибаются горбом, образуя круглый холм, напоминающий земной шар. Остановившись вверху, на тротуаре широкой улицы, я смотрю, как из-за горки сюда спешит прохожий: сперва из земли показывается голова, за ней – плечи, и только потом вылезает весь человек. Зрелище это длится с полминуты, не меньше, и кажется необыкновенно загадочным.
Следуя своим путем, я заглядываю в каждую улочку, и вдали между стрелками мостов мелькает всякий раз то южное предместье, то королевский дворец, то дома Старого города. И тут меня захлестывают воспоминания. Вон там, на дне вон той гнутой трубы, именуемой переулком таким-то, стоит дом, где когда-то, в незапамятные времена, я бывал чуть ли не каждый день и где судьба готовила мне ловушку… Прямо напротив высится другой дом, куда спустя двадцать лет я хаживал в обстоятельствах сходных, но вместе с тем совершенно иных и потому злосчастных вдвойне. А вон там внизу, на соседней улочке, я изведал дни, обычно самые что ни на есть счастливые в жизни других людей. И для меня тоже были они таковыми, но вместе с тем и самыми страшными; и даже время с его спасительной позолотой бессильно воскресить красоту, оттого что уродство тех дней поглотило рассыпанные в них блестки прекрасного. Картины с годами тускнеют, и меняются краски, да только не в лучшую сторону – в особенности, белый цвет зачастую приобретает грязно-желтый оттенок. «Читатели» утверждают, что так и должно быть, чтобы в час великого расставанья, коль скоро мы вынуждены отринуть прошлое, мы, ни о чем не жалея, спокойно следовали своим путем.
Я иду дальше все той же широкой улицей, мимо высоких новых домов, и скоро они начинают редеть. Встают в свете утра гряды гор, и расстилается впереди табачное поле; здесь же частная скотобойня, чьи неказистые службы скрыты за поворотом, в проулке. Здесь же примостился сарай с чердаком, где сушится табак, помню его с 1859 года, когда мне часто случалось тут играть. В былые годы на этом месте стояла хибарка, которой давно уже нет и в помине, в ней жила женщина, некогда служившая у моих родителей в няньках… и с этого самого чердака ее восьмилетний сын свалился на землю и притом сильно ушибся. Мы часто приходили сюда просить эту женщину помочь нам с большой уборкой, которую затевали всякий раз перед пасхой и рождеством… да и вообще я любил добираться до школы здешними переулками, чтобы только не выходить на Дроттнинггатан. Здесь росли деревья и цвели травы, здесь паслись коровы и кудахтали куры, одно слово – деревня!…
Вот я и возвратился в прошлое, назад в мое кошмарное детство, когда впереди ждала страшная, неведомая мне жизнь и все вокруг лишь давило и угнетало!… Но достаточно отвернуться и пойти дальше – и все эти картины вновь отодвинутся в прошлое, и так я и поступил, но притом все же успел различить вдалеке верхушки лип на длинной улице моего детства и смутные очертания сосен у городского кладбища.
Я повернулся спиной к моему прошлому и, оглянув во всю длину широкую улицу, озаренную утренним солнцем, сияющим вдалеке – над синью гор, над берегом моря, мгновенно позабыл свое детство, столь тесно сплетенное с детством других людей и потому словно не мое, а чужое – ведь настоящая моя жизнь началась там, у моря.
Тот самый уголок у сарая с сушилом – мой вечный кошмар, но порой странным образом меня влечет туда, как влечет нас ко всему зловещему, страшному. Так люди ходят смотреть на диких зверей, которые крепко привязаны цепью и потому не могут броситься на тебя. А какое острое наслаждение испытываю я в тот миг, когда, повернувшись спиной к моему детству, следую дальше своим путем, – настолько острое, что я нет-нет да стараюсь доставить себе это счастье. В эту секунду я ухожу на тридцать три года вперед и радуюсь, что мне столько лет, сколько есть. Кстати, мне всегда хотелось «состариться», даже когда я был ребенком. Нынче я думаю, что уже тогда я предчувствовал все, что ждало меня в будущем и что нынче видится мне как нечто неизбежное, заведомо предопределенное. Жизнь моя никак не могла сложиться иначе. Когда у перекрестка юности меня встретили Минерва с Венерой, я был не в силах выбирать между ними, а протянул руки обеим и поспешил за ними, как, должно быть, и все мы поступали и как, возможно, нам и надлежит поступать.
И вот я шагаю солнцу навстречу и вскоре подхожу к ельнику по левую сторону улицы.
Помню, лет двадцать назад я шел этим же ельником и глядел на город, расстилавшийся внизу подо мной. В ту пору я был отверженным, отщепенцем, подобно Алкивиаду, осквернившему святыню [5 - Алкивиад (ок. 450 – ок. 404 гг. до н. э.) – один из известнейших афинских государственных деятелей и полководцев. Был обвинен в разрушении герм (статуй Гермеса).] и разбившему статуи бога. Помню, как жутко угнетало меня одиночество, не было ведь тогда у меня ни одного друга, зато весь город подстерегал меня там, внизу, как некий вражеский стан, ощетинившийся штыками против меня одного, и я уже зрил огни лагеря, и слыхал звон набата, и знал, что меня захотят взять измором. Нынче я знаю, что в ту пору был прав, вот только зря я злорадствовал, радуясь зажженному мной пожару. О, будь у меня тогда хоть капля жалости к тем, чьи чувства я оскорбил! Хоть капля! Но, может, это значило бы слишком уж многого требовать от юноши, никогда не встречавшего участия у других!
То шествие мое сквозь ельник ныне вспоминается мне как нечто величественное и торжественное, но вот спасение мое в ту пору я не могу приписать собственным силам, потому что в них я не верю.
* * *
Вот уже три недели, как я не разговаривал ни с одним человеком, и, должно быть, от этого голос мой сделался глухим, еле слышным, потому что горничная перестала меня понимать, когда я к ней обращался, и мне приходилось повторять одно и то же по нескольку раз. Тут я встревожился, одиночество мое показалось мне проклятьем, и я подумал: люди не хотят меня знать за то, что я сам отвернулся от них. И отныне стал выходить вечерами из дому. Садился в какой-нибудь трамвай – для того лишь, чтобы быть рядом с людьми. Я старался прочитать в их главах, нет ли у них злобы ко мне, но увидел одно равнодушие. Я прислушивался к их разговорам, так, словно пришел к ним в гости и имел право участвовать в беседе, пусть в роли молчаливого слушателя. Когда же в трамвай набивался народ, я радовался, чувствуя локоть другого человеческого существа.
Никогда не питал я к людям злобы, скорее наоборот, но я всегда боялся их, с первых дней моей жизни. Настолько был я прежде общителен, что мог водить компанию с кем угодно, и когда-то считал одиночество наказанием, – впрочем, может, так оно и есть. У друзей, которым доводилось сидеть в тюрьме, я спрашивал: в чем, в сущности, состоит наказание, и все отвечали мне: «В одиночестве». Конечно, на этот раз я сам избрал для себя одиночество, но с безмолвной оговоркой, что буду, когда мне захочется, навещать знакомых. Почему же я не делаю этого? Не могу, потому что чувствую себя чем-то вроде нищего попрошайки, когда поднимаюсь к кому-нибудь по лестнице, но при виде висячего звонка всякий раз поворачиваю назад. А затем, возвратившись домой, радуюсь, что повернул назад, особенно когда начну мысленно перебирать все, что, по всей вероятности, мне довелось бы услышать, переступи я порог чужой квартиры. Поскольку мысли мои не совпадают с мыслями других людей, меня больно ранит чуть ли не любое их слово, и самое невинное замечание я способен воспринять как насмешку.
Наверно, судьба осудила меня на одиночество, и оно мне на пользу; хочется верить этому, иначе жребий мой был бы уж слишком жестоким. Но в уединении мозг порой насыщается столь обильно, что кажется, вот-вот голова лопнет, а потому необходимо следить за собой. Я всегда стараюсь уравновесить отдачу с тем, что вбираю в себя: ежедневно давать выход мыслям в писательстве, но и ежедневно впитывать новое через книги. Если весь день я пишу, то под вечер уже подступает отчаяние, вакуум, пустота: мне кажется, будто мне больше нечего сказать людям, будто я иссяк. Но если я весь день читаю, тогда мысли так переполняют меня, что кажется, я вот-вот взорвусь.
И еще я должен соразмерять часы сна и бдения. Избыток сна утомляет, он превращается в муку, бессонница же способна довести тебя до истерики.
День еще кое-как можно вытерпеть, но вечерами тяжко: чувствовать, как угасает мысль, – та же мука, что и следить за своим духовным и телесным упадком.
Встанешь утром с кровати, хорошо выспавшись за ночь, не пригубив вечером ни капли вина, и каждый миг жизни становится наслаждением. Ты будто восстал из мертвых. Будто обновились все силы души, во сто крат умноженные благодетельным сном. Будто в твоей власти преобразовать весь мир, вершить судьбы народов, объявлять войны и рушить династии. Читая газету, я узнаю из международных телеграмм все события современной истории и полностью ощущаю себя в русле дня, в сиюминутном кипении жизни. Я «современник» эпохи, в истинном смысле слова, ведь в меру моих слабых сил и я сотворял настоящее, трудясь на него в прошлом… Затем я читаю сообщения по стране и уж совсем под конец – городские новости.
С вчерашнего дня мировая история ушла вперед еще на один шаг. Тут приняли новые законы, там открыли новые торговые пути, где-то нарушили порядок престолонаследования, а где-то преобразовали государственный строй. Одни люди умерли, другие родились, третьи вступили в законный брак.
С вчерашнего дня мир изменился, с новым солнцем и новым днем пришло новое, и сам я почувствовал себя обновленным.
Мне страстно хочется сесть за работу, но сначала я должен пройтись. Спустившись в подъезд, я уже знаю, какой дорогой пойду. Не только солнце и облака, тепло или холод укажут мне путь, кажется, само тело мое оснащено приборами, показывающими, что же нынче сулит мне мир.
Три пути предоставляются мне на выбор. Веселая дорога к Юргордену, людная Страндвеген с прилегающими улочками, и, наконец, уединенная Виа Долороза, которую я уже описал. Но всегда с первой же минуты я знаю, куда нынче понесут меня ноги. И если я в ладу с самим собой, то даже воздух ласков ко мне, и я спешу к людям.
И вот я шагаю по улицам в оживленной толпе, и все люди – будто друзья мне. Но если на душе скверно, тогда вокруг мне видятся одни лишь враги, издевательски посматривающие на меня, и так нестерпима порой их злоба, что иной раз я вынужден повернуть назад. Иногда я устремляюсь к Брунсвику или к дубовым рощам на холмах Росендала, и если природа созвучна мне, тогда я чувствую себя здесь как дома. С этими местами я сроднился, сросся, они стали фоном в действе, исполняемом мной одним. Но и у здешнего пейзажа свой нрав, и нет-нет да выдастся утро, когда мы не ладим друг с другом. Тогда картина меняется: триумфальные арки берез мгновенно обращаются в пучки розог; сквозь толщу волшебной листвы грозят увесистые дубинки орешника; дуб свирепо размахивает над моей головой узловатыми сучьями, и мне страшно, словно на меня уже надели ярмо. Этот разлад между мной и пейзажем настолько мучителен, что я готов сдаться и бежать отсюда. Но стоит мне повернуться и увидеть Южное предместье с его великолепным городским рисунком, как я тотчас кажусь себе путником, забредшим в чужой, враждебный край, туристом, впервые узревшим эти места, и я вправду растерян, как какой-нибудь чужестранец, не знающий в этом городе никого.
Затем я возвращаюсь домой, сажусь за письменный стол и оживаю: весь тот заряд, что я почерпнул на воле, отрицательный, как и положительный, служит теперь моим неисчислимым задачам. Я живу, живу многоликой жизнью всех людей, о которых пишу: с весельчаками веселюсь, со злодеями злобствую, творю добро с добродетельными, словом, вылезаю из собственной скорлупы, из своего «я» и глаголю устами детей, женщин и стариков: я – король и нищий; могучий тиран и презираемый всеми подъяремный тираноборец; я вездесущ и многолик, любую веру готов признать своей, и всем эпохам принадлежит моя жизнь, – только сам себе я больше не принадлежу. Состояние это дарит мне ни с чем не сравнимое счастье.
Но к обеду я завершаю работу, – в этот день я уже больше не стану писать, и тут для меня наступает такая мука, что сумерки мнятся мне предвозвестием смерти. А сумерки тянутся ужас как долго. Другие люди после дневного труда находят развлечение в беседе с друзьями, мне же нечем развлечься. Тишина обступает меня, я пытаюсь читать, но сил уже нет ни на что. Тогда я начинаю мерять шагами комнату, поглядывая на часы, когда же они пробьют десять. И скоро они бьют десять.
Я сбрасываю одежду, вместе со всеми этими пуговицами, пряжками, кнопками и тесемками, – и душе моей приходит черед вздохнуть свободнее и сбросить гнет. Совершив омовение на восточный лад, я ложусь в кровать, и тут будто рассыпается все бытие: воля к жизни, к битвам, к борьбе угасает, а сонливость весьма сродни жажде смерти.
Но сначала я отдаю полчаса медитации – читаю духовные книги, которые выбираю всякий раз по настроению. Иногда я беру католическую книгу, от которой веет апостольским, традиционным христианством; подобно латыни и греческому – это наши истоки, ведь католическое христианство – начало начал нашей, моей культуры. Погружаясь в римский католицизм, я чувствую себя римским гражданином. И одновременно – гражданином Европы; к тому же вплетенные в текст латинские стихи напоминают мне, что я образованный человек. Я не католик, никогда им не был да и не намерен связывать себя принадлежностью к тому или иному вероисповеданию. Иногда я беру старую лютеранскую книгу – с псалмом на каждый день года – и пользуюсь ею как жупелом. Книга эта написана в XVII веке, когда людям на земле жилось худо. Потому и сочинитель ее на редкость суров и превозносит страдание как некую божью милость и благодать. Лишь невзначай случается ему обронить доброе слово, поистине он способен довести читателя до отчаяния, и потому я вступаю с ним в поединок. «Неверно все это, – говорю я себе, – это всего лишь испытание моих душевных сил. Ибо католический автор объяснил мне, что искуситель творит самое злое дело, стремясь столкнуть человека в пропасть отчаяния, отнять у него надежду, а надежда для католика – непременная добродетель, ведь суть веры в том, чтобы ждать от бога добра, а приписывать богу зло – это от дьявола».
Изредка достаю я другую, странную книгу, изданную в XVIII столетии, в век Просвещения. Автор ее неизвестен, и я затрудняюсь сказать, кто он – католик, лютеранин или кальвинист [6 - Кальвинисты – последователи учения одного из деятелей Реформации Жана Кальвина (1509 – 1564).], в книге, однако, заключена христианская жизненная мудрость – мудрость человека, который хорошо знал мир и людей, да притом еще был и поэт и ученый. Этот автор всегда говорит мне именно то, что в этот день, в этот час мне необходимо услышать. И если в какой-то миг все восстанет во мне против неправомерных и нелепых его требований к смертному человеку, то в следующий миг автор сам же и приведет все мои возражения. Он, что называется, разумный малый, который трезво смотрит на вещи и умеет расставить по своим местам праведное и неправедное. Слегка напоминает он Якоба Бёме [7 - Якоб Бёме (1575 – 1624) – немецкий философ, представитель пантеизма.], считавшего, что всякое явление содержит в себе и «да» и «нет».
Тут он повесил трубку.
Сцена эта должна была означать: получен крупный заказ. Но сыграл он ее плоско, без необходимых оттенков. Невинная в общем затея, но меня рассердило, что малый этот дурачит меня, да и надоело ждать, поэтому я хмуро принялся изучать фирменные этикетки. Хоть я и не очень-то разбираюсь в винах, но все же у меня давно отложилось в памяти: марка «Круз и сыновья» гарантирует, что перед тобой – настоящее французское вино. Увидев здесь эту марку, я удивился появлению бордоского в бакалейной лавке и, решив кутнуть, купил одну бутылку вина за баснословно низкую цену.
Дома же сделал я ряд открытий, вследствие которых решил ничего больше не покупать в этой лавке, – пусть я и не пострадал в этот раз. Прежние отменные финики хозяин перемешал с другими – старыми и жесткими, как дерево, а вино, хоть на бутылке и стояла фамилия Круза, могло быть из каких угодно подвалов, может, даже самого Робинзона Крузо, но только не «Круза и сыновей».
С тех пор я вообще не видел, чтобы кто-нибудь заходил в эту лавку. И тут-то и началась трагедия. Человек в самом расцвете сил, жаждущий дела, оказался осужден на праздность, а стало быть, и на гибель. Он пытался сражаться с напастью, с каждым часом придвигавшейся все ближе. Неустрашимость его дала трещину и сменилась каким-то нервозным упрямством; я видел, как за стеклом витрины, будто призрак, мелькало его лицо – он высматривал клиентов, – но вскоре он начал прятаться. Тяжело было видеть, как он в страхе скрывался за свою арку, страшась всего на свете, даже прихода клиентов: что, если снова кто-то придет полистать адресный справочник? Жестокий миг – ведь клиента надлежало встретить любезной улыбкой. Еще в первые дни торговли хозяин застиг своего продавца на том, как тот брезгливо швырнул адресную книгу какому-то благообразному пожилому господину. Обладая несколько большим житейским опытом, чем его юный помощник, владелец лавки сделал пареньку выговор и объяснил: сперва люди приходят в лавку за марками и адресной книгой, а уж потом становятся ее клиентами; жаль, сам он не усвоил той истины, что лучшая реклама – это добротный товар, а обманом только себя самого подведешь.
Крах приближался. Все муки хозяина лавки сделались моими муками; я страдал, размышляя, каково же придется его жене и как он оплатит квартальный взнос, аренду и векселя. Под конец мне стало уже невмоготу проходить мимо его витрины, и я всякий раз выбирал другой путь. И все равно мне не удавалось о нем забыть – так скорбно отдавался в моей стене звон его телефона, даже по ночам. И всякий раз слышал я скорбные причитания, долгий, нескончаемый плач о жизни, сломленной в самом зачатке, плач надежды и отчаяния, что нельзя начать все сначала… да где-то ждала его жена с нерожденным младенцем в утробе.
Легче не становилось оттого, что он сам был повинен в своем несчастье. А впрочем, неизвестно, он ли был в нем повинен. Всем этим мелким уловкам, что в обиходе у торговцев, хозяин лавки выучился у своих наставников и не видел в них ничего дурного. Недомыслие! Вот причина, но никак не вина.
Порой я спрашивал себя: мне-то что за дело до всего этого? Но может, так и нужно – чтобы над тобой довлело чужое горе, и оно неизбежно настигнет тебя всякий раз, когда, окопавшись в уединении, ты захочешь спрятаться от него.
Наконец, жребий торговца свершился. Признаться, я вздохнул с облегчением, когда на дверях лавки повесили замок и все было кончено. Но когда вновь отперли дверь и принялись опустошать шкафы, освобождать полки и вывозить всю эту груду товаров, по большей части уже попорченных, то казалось, будто мы присутствуем при вскрытии трупа. Я был знаком с одним из грузчиков и, поднявшись в лавку, прошел в заднюю комнату за аркой. Вот здесь молодой хозяин лавки бился с судьбой. Дабы убить время и уйти от пытки полного безделья, он без конца выписывал липовые счета. Бумажки эти по-прежнему валялись в задней комнате, а выписывались они на имя князя Гогенлоэ [2 - ГогенлоэХлодвиг Карл Виктор (1819 – 1901) – князь Шил-лингфюрст, германский государственный деятель и дипломат.], Феликса Фора и принца Уэльского. Принц будто бы купил 200 килограммов «русского» мармелада и ящик бутылей с острым индийским соусом.
Любопытно, как в мозгу этого человека поездка Феликса Фора в Россию [3 - Феликс Фор (1841 – 1899) – французский государственный деятель. С 1895 по 1899 г. – президент Республики. Будучи сторонником союза с Россией, Ф. Фор принимал в 1896 г. русского царя Николая II в Париже, а в 1897 г. с ответным визитом посетил Петербург.] слилась с рассказами об англо-индийской кухне, которую держал в своем доме принц Уэльский.
Валялась здесь также пачка написанных от руки объявлений о продаже «превосходной» икры, «превосходного» кофе, – словом, превосходным провозглашался весь товар, да только ни одно объявление так и не было напечатано.
Я понял, что человек, стоявший за конторским столом, вынужден был разыгрывать эту комедию ради своего помощника. Бедняга! Жизнь, однако, – вещь долгая и изменчивая, и как знать, может, человек этот еще и выплывет на поверхность!
III
Вот что такое, в конечном счете, одиночество: закутаться в шелковый кокон своей души, обратиться в куколку и ждать превращения, а уж оно не преминет наступить. Пережитое служит тебе пищей, да и к тому же в силу телепатии ты живешь жизнью других людей. Смерть и воскрешение, новая школа для нового, неведомого бытия.
В одиночестве, наконец, ты сам себе господин. Никто не контролирует твоих мыслей, а, стало быть, чужие вкусы и прихоти не давят более на тебя. В этой заново обретенной свободе расцветает душа, и наполняет ее отныне умиротворенность и тихая радость, чувство уверенности и полной ответственности за себя.
Когда же я вспоминаю свою совместную жизнь с кем бы то ни было, о которой принято говорить, что это и есть школа нравственности, – нынче она представляется мне исключительно школой порока. Быть принужденным постоянно наблюдать уродство – пытка для человека, наделенного чувством прекрасного, и он ошибочно начинает почитать себя мучеником. Но если учтивости ради начнешь притворяться, будто не замечаешь дурного, – сделаешься лицемером. А привыкнув, ради все той же учтивости, всегда подавлять собственное суждение, станешь трусом. И наконец, если ради мира в семье ты станешь брать на себя вину за проступки, в коих совсем неповинен, это неприметно унизит тебя, так что вскоре и сам начнешь почитать себя дрянью; да если человек ни разу не слыхал ни от кого доброго слова, он и вовсе может утратить мужество и всякую веру в себя, а вечно сносить последствия чужих прегрешений – от одного этого можно возненавидеть людей, а с ними и все мироздание.
Но всего хуже другое: даже будучи преисполнен самых добрых намерений, ты уже не хозяин своей судьбы. Сколько бы ни тщился я быть во всем безупречным, какой от этого прок, если мой спутник чем-то замарает себя? Половина позора, если не весь позор, падет на мою голову, как оно всегда и бывает. Вот и выходит, что, деля жизнь с другим человеком, ты вечно живешь в тревоге, ведь ты куда больше уязвим, обнажен перед толпой стараниями самого близкого тебе существа и вечно зависишь от чужих непредсказуемых поступков. А тем, кто не мог подобраться ко мне, когда я был одинок, теперь ничего не стоит вонзить нож в мое сердце, коль скоро я доверил его другому, и тот человек повсюду таскает его с собой – на улицу и даже на базарную площадь.
И еще одно благо даровало мне одиночество: я сам распоряжаюсь отныне моим духовным пайком. Мне нет больше нужды лицезреть врагов в своем доме, за семейным столом, и молча выслушивать, как они поносят все самое для меня святое; и я не обязан у себя в квартире внимать звукам музыки, которой не выношу; точно так же избавлен я от необходимости повсюду натыкаться на газеты с карикатурами, высмеивающими моих друзей, а порой и меня самого, и свободен от обязанности читать книги, которые не ставлю ни в грош, да еще и ходить на выставки и восхищаться живописью, которую презираю. Словом, я хозяин своей души во всех случаях, когда человек имеет на это право, и я сам решаю, что мне любить, а что ненавидеть. Никогда не был я тираном, желая лишь одного – чтобы меня не тиранили, но этого-то и не терпят люди, склонные к тирании. Зато я всегда ненавидел тиранов, а уж этого они нипочем не прощают.
Всю свою жизнь я стремился вперед и ввысь и этим был прав перед теми, кто старался совлечь меня вниз, и вот почему я сделался одиноким.
***
Первое, к чему побуждает одиночество, – это разобраться с самим собой и со своим прошлым. Долгая это работа, в неустанном борении с собой, и долгая наука. Зато и нет науки благодарней, чем познать самого себя, если только это возможно. Порой не обойтись без помощи зеркала, особенно чтобы рассмотреть себя сзади, иначе ведь и не узнаешь, как выглядишь со спины.
Я начал это разбирательство лет десять назад, когда впервые познакомился с Бальзаком. Читая один за другим все пятьдесят его томов, я не замечал того, что совершалось во мне, пока чтение не подошло к концу. И тут оказалось, что я уже нашел себя и сумел обобщить все противоречия моей жизни, доселе мнившиеся неразрешимыми. К тому же, привыкнув разглядывать людей в его бинокль, я научился смотреть на жизнь обоими глазами, тогда как прежде видел ее сквозь свой монокль – одним глазом. И этот великий волшебник внушил мне не только смирение, своего рода покорность жребию или провидению, смягчившие боль от самых тяжких ударов судьбы, но и неприметно одарил меня серой, которую я хотел бы назвать неортодоксальным христианством. В ходе путешествия, в какое увлек меня Бальзак, этого странствия сквозь его человеческую комедию, наградившего меня знакомством с четырьмя тысячами персонажей (некий немец всех их пересчитал!), я словно жил другой жизнью – много шире, богаче моей собственной, – так что в конце путешествия мне показалось, будто я уже прожил целых две человеческих жизни. Но, окунувшись в мир Бальзака, я стал по-иному смотреть на мой собственный мир и после многих кризисов и рецидивов в некотором роде смирился с болью, и мало того, еще и открыл для себя, что в огне страданий и скорби сгорает дотла душевный мусор; облагораживая инстинкты и чувства, пламя умножает силы души, воспарившей над измученным телом. С этой поры я уже глотал горькие пилюли, какие преподносила мне жизнь, как целебное средство, и считал своим долгом выстрадать все – кроме унижения и рабства.
Одиночество вместе с тем обостряет впечатлительность человека, и если прежде я защищался грубостью от страданий, то ныне я стал, более чувствителен к чужой боли, сделался чуть ли не игрушкой внешних влияний, только, разумеется, не дурных. Дурные влияния лишь отпугивали меня, и я еще больше замыкался в своем одиночестве. Я стал искать места уединенных прогулок, где заведомо встретишь лишь мелкий люд, прохожих, которым я незнаком. Есть у меня свой особый маршрут – Via dolorosa [4 - Скорбный путь (ит.)] прозвал я его, – который я выбираю в пасмурные дни. Это северная оконечность Старого города – широкая улица, окаймляемая с одной стороны вереницей домов и лесом – с другой. Но чтобы туда добраться, надо пройти переулок, который мне чем-то особенно мил, хоть,
по совести, я и не скажу, чем он так околдовал меня. В самом низу тесного переулка, возвышаясь над ним, стоит огромная церковь – она и осеняет и затеняет его, – но не она привлекает меня, ведь я никогда не бываю в церкви, потому что… не знаю сам почему. Там же, справа, расположена контора пастора, куда однажды, много лет назад, я ходил насчет оглашения предстоящего моего брака в церкви. Но там, у северной оконечности Старого города, где улица выводит тебя к вересковым зарослям, высится дом. Величественный, будто дворец, стоит он на скате последнего холма, и из него открывается вид на море и шхеры. Этот дом много лет занимал мои мысли. Я мечтал поселиться в нем и внушил себе, будто там живет человек, от которого прежде зависел, а может, и ныне зависит мой жребий. Дом этот виден мне из моей квартиры, и день за днем я неотвязно разглядываю его в час, когда он весь озарен солнцем, но также по вечерам, когда в нем зажигают огни. А когда я иду мимо, что-то дружелюбно-участливое проступает в облике дома, и всем существом я отзываюсь на это, и кажется, жду не дождусь того дня, когда мне дозволят обрести здесь и кров и покой.
Дальше я иду по широкой улице, куда вливается тьма переулков, и каждый из них будит во мне отзвуки прошлого. Я иду гребнем высокой горы, и переулки сбегают отсюда вниз, но иные где-то на полпути выгибаются горбом, образуя круглый холм, напоминающий земной шар. Остановившись вверху, на тротуаре широкой улицы, я смотрю, как из-за горки сюда спешит прохожий: сперва из земли показывается голова, за ней – плечи, и только потом вылезает весь человек. Зрелище это длится с полминуты, не меньше, и кажется необыкновенно загадочным.
Следуя своим путем, я заглядываю в каждую улочку, и вдали между стрелками мостов мелькает всякий раз то южное предместье, то королевский дворец, то дома Старого города. И тут меня захлестывают воспоминания. Вон там, на дне вон той гнутой трубы, именуемой переулком таким-то, стоит дом, где когда-то, в незапамятные времена, я бывал чуть ли не каждый день и где судьба готовила мне ловушку… Прямо напротив высится другой дом, куда спустя двадцать лет я хаживал в обстоятельствах сходных, но вместе с тем совершенно иных и потому злосчастных вдвойне. А вон там внизу, на соседней улочке, я изведал дни, обычно самые что ни на есть счастливые в жизни других людей. И для меня тоже были они таковыми, но вместе с тем и самыми страшными; и даже время с его спасительной позолотой бессильно воскресить красоту, оттого что уродство тех дней поглотило рассыпанные в них блестки прекрасного. Картины с годами тускнеют, и меняются краски, да только не в лучшую сторону – в особенности, белый цвет зачастую приобретает грязно-желтый оттенок. «Читатели» утверждают, что так и должно быть, чтобы в час великого расставанья, коль скоро мы вынуждены отринуть прошлое, мы, ни о чем не жалея, спокойно следовали своим путем.
Я иду дальше все той же широкой улицей, мимо высоких новых домов, и скоро они начинают редеть. Встают в свете утра гряды гор, и расстилается впереди табачное поле; здесь же частная скотобойня, чьи неказистые службы скрыты за поворотом, в проулке. Здесь же примостился сарай с чердаком, где сушится табак, помню его с 1859 года, когда мне часто случалось тут играть. В былые годы на этом месте стояла хибарка, которой давно уже нет и в помине, в ней жила женщина, некогда служившая у моих родителей в няньках… и с этого самого чердака ее восьмилетний сын свалился на землю и притом сильно ушибся. Мы часто приходили сюда просить эту женщину помочь нам с большой уборкой, которую затевали всякий раз перед пасхой и рождеством… да и вообще я любил добираться до школы здешними переулками, чтобы только не выходить на Дроттнинггатан. Здесь росли деревья и цвели травы, здесь паслись коровы и кудахтали куры, одно слово – деревня!…
Вот я и возвратился в прошлое, назад в мое кошмарное детство, когда впереди ждала страшная, неведомая мне жизнь и все вокруг лишь давило и угнетало!… Но достаточно отвернуться и пойти дальше – и все эти картины вновь отодвинутся в прошлое, и так я и поступил, но притом все же успел различить вдалеке верхушки лип на длинной улице моего детства и смутные очертания сосен у городского кладбища.
Я повернулся спиной к моему прошлому и, оглянув во всю длину широкую улицу, озаренную утренним солнцем, сияющим вдалеке – над синью гор, над берегом моря, мгновенно позабыл свое детство, столь тесно сплетенное с детством других людей и потому словно не мое, а чужое – ведь настоящая моя жизнь началась там, у моря.
Тот самый уголок у сарая с сушилом – мой вечный кошмар, но порой странным образом меня влечет туда, как влечет нас ко всему зловещему, страшному. Так люди ходят смотреть на диких зверей, которые крепко привязаны цепью и потому не могут броситься на тебя. А какое острое наслаждение испытываю я в тот миг, когда, повернувшись спиной к моему детству, следую дальше своим путем, – настолько острое, что я нет-нет да стараюсь доставить себе это счастье. В эту секунду я ухожу на тридцать три года вперед и радуюсь, что мне столько лет, сколько есть. Кстати, мне всегда хотелось «состариться», даже когда я был ребенком. Нынче я думаю, что уже тогда я предчувствовал все, что ждало меня в будущем и что нынче видится мне как нечто неизбежное, заведомо предопределенное. Жизнь моя никак не могла сложиться иначе. Когда у перекрестка юности меня встретили Минерва с Венерой, я был не в силах выбирать между ними, а протянул руки обеим и поспешил за ними, как, должно быть, и все мы поступали и как, возможно, нам и надлежит поступать.
И вот я шагаю солнцу навстречу и вскоре подхожу к ельнику по левую сторону улицы.
Помню, лет двадцать назад я шел этим же ельником и глядел на город, расстилавшийся внизу подо мной. В ту пору я был отверженным, отщепенцем, подобно Алкивиаду, осквернившему святыню [5 - Алкивиад (ок. 450 – ок. 404 гг. до н. э.) – один из известнейших афинских государственных деятелей и полководцев. Был обвинен в разрушении герм (статуй Гермеса).] и разбившему статуи бога. Помню, как жутко угнетало меня одиночество, не было ведь тогда у меня ни одного друга, зато весь город подстерегал меня там, внизу, как некий вражеский стан, ощетинившийся штыками против меня одного, и я уже зрил огни лагеря, и слыхал звон набата, и знал, что меня захотят взять измором. Нынче я знаю, что в ту пору был прав, вот только зря я злорадствовал, радуясь зажженному мной пожару. О, будь у меня тогда хоть капля жалости к тем, чьи чувства я оскорбил! Хоть капля! Но, может, это значило бы слишком уж многого требовать от юноши, никогда не встречавшего участия у других!
То шествие мое сквозь ельник ныне вспоминается мне как нечто величественное и торжественное, но вот спасение мое в ту пору я не могу приписать собственным силам, потому что в них я не верю.
* * *
Вот уже три недели, как я не разговаривал ни с одним человеком, и, должно быть, от этого голос мой сделался глухим, еле слышным, потому что горничная перестала меня понимать, когда я к ней обращался, и мне приходилось повторять одно и то же по нескольку раз. Тут я встревожился, одиночество мое показалось мне проклятьем, и я подумал: люди не хотят меня знать за то, что я сам отвернулся от них. И отныне стал выходить вечерами из дому. Садился в какой-нибудь трамвай – для того лишь, чтобы быть рядом с людьми. Я старался прочитать в их главах, нет ли у них злобы ко мне, но увидел одно равнодушие. Я прислушивался к их разговорам, так, словно пришел к ним в гости и имел право участвовать в беседе, пусть в роли молчаливого слушателя. Когда же в трамвай набивался народ, я радовался, чувствуя локоть другого человеческого существа.
Никогда не питал я к людям злобы, скорее наоборот, но я всегда боялся их, с первых дней моей жизни. Настолько был я прежде общителен, что мог водить компанию с кем угодно, и когда-то считал одиночество наказанием, – впрочем, может, так оно и есть. У друзей, которым доводилось сидеть в тюрьме, я спрашивал: в чем, в сущности, состоит наказание, и все отвечали мне: «В одиночестве». Конечно, на этот раз я сам избрал для себя одиночество, но с безмолвной оговоркой, что буду, когда мне захочется, навещать знакомых. Почему же я не делаю этого? Не могу, потому что чувствую себя чем-то вроде нищего попрошайки, когда поднимаюсь к кому-нибудь по лестнице, но при виде висячего звонка всякий раз поворачиваю назад. А затем, возвратившись домой, радуюсь, что повернул назад, особенно когда начну мысленно перебирать все, что, по всей вероятности, мне довелось бы услышать, переступи я порог чужой квартиры. Поскольку мысли мои не совпадают с мыслями других людей, меня больно ранит чуть ли не любое их слово, и самое невинное замечание я способен воспринять как насмешку.
Наверно, судьба осудила меня на одиночество, и оно мне на пользу; хочется верить этому, иначе жребий мой был бы уж слишком жестоким. Но в уединении мозг порой насыщается столь обильно, что кажется, вот-вот голова лопнет, а потому необходимо следить за собой. Я всегда стараюсь уравновесить отдачу с тем, что вбираю в себя: ежедневно давать выход мыслям в писательстве, но и ежедневно впитывать новое через книги. Если весь день я пишу, то под вечер уже подступает отчаяние, вакуум, пустота: мне кажется, будто мне больше нечего сказать людям, будто я иссяк. Но если я весь день читаю, тогда мысли так переполняют меня, что кажется, я вот-вот взорвусь.
И еще я должен соразмерять часы сна и бдения. Избыток сна утомляет, он превращается в муку, бессонница же способна довести тебя до истерики.
День еще кое-как можно вытерпеть, но вечерами тяжко: чувствовать, как угасает мысль, – та же мука, что и следить за своим духовным и телесным упадком.
Встанешь утром с кровати, хорошо выспавшись за ночь, не пригубив вечером ни капли вина, и каждый миг жизни становится наслаждением. Ты будто восстал из мертвых. Будто обновились все силы души, во сто крат умноженные благодетельным сном. Будто в твоей власти преобразовать весь мир, вершить судьбы народов, объявлять войны и рушить династии. Читая газету, я узнаю из международных телеграмм все события современной истории и полностью ощущаю себя в русле дня, в сиюминутном кипении жизни. Я «современник» эпохи, в истинном смысле слова, ведь в меру моих слабых сил и я сотворял настоящее, трудясь на него в прошлом… Затем я читаю сообщения по стране и уж совсем под конец – городские новости.
С вчерашнего дня мировая история ушла вперед еще на один шаг. Тут приняли новые законы, там открыли новые торговые пути, где-то нарушили порядок престолонаследования, а где-то преобразовали государственный строй. Одни люди умерли, другие родились, третьи вступили в законный брак.
С вчерашнего дня мир изменился, с новым солнцем и новым днем пришло новое, и сам я почувствовал себя обновленным.
Мне страстно хочется сесть за работу, но сначала я должен пройтись. Спустившись в подъезд, я уже знаю, какой дорогой пойду. Не только солнце и облака, тепло или холод укажут мне путь, кажется, само тело мое оснащено приборами, показывающими, что же нынче сулит мне мир.
Три пути предоставляются мне на выбор. Веселая дорога к Юргордену, людная Страндвеген с прилегающими улочками, и, наконец, уединенная Виа Долороза, которую я уже описал. Но всегда с первой же минуты я знаю, куда нынче понесут меня ноги. И если я в ладу с самим собой, то даже воздух ласков ко мне, и я спешу к людям.
И вот я шагаю по улицам в оживленной толпе, и все люди – будто друзья мне. Но если на душе скверно, тогда вокруг мне видятся одни лишь враги, издевательски посматривающие на меня, и так нестерпима порой их злоба, что иной раз я вынужден повернуть назад. Иногда я устремляюсь к Брунсвику или к дубовым рощам на холмах Росендала, и если природа созвучна мне, тогда я чувствую себя здесь как дома. С этими местами я сроднился, сросся, они стали фоном в действе, исполняемом мной одним. Но и у здешнего пейзажа свой нрав, и нет-нет да выдастся утро, когда мы не ладим друг с другом. Тогда картина меняется: триумфальные арки берез мгновенно обращаются в пучки розог; сквозь толщу волшебной листвы грозят увесистые дубинки орешника; дуб свирепо размахивает над моей головой узловатыми сучьями, и мне страшно, словно на меня уже надели ярмо. Этот разлад между мной и пейзажем настолько мучителен, что я готов сдаться и бежать отсюда. Но стоит мне повернуться и увидеть Южное предместье с его великолепным городским рисунком, как я тотчас кажусь себе путником, забредшим в чужой, враждебный край, туристом, впервые узревшим эти места, и я вправду растерян, как какой-нибудь чужестранец, не знающий в этом городе никого.
Затем я возвращаюсь домой, сажусь за письменный стол и оживаю: весь тот заряд, что я почерпнул на воле, отрицательный, как и положительный, служит теперь моим неисчислимым задачам. Я живу, живу многоликой жизнью всех людей, о которых пишу: с весельчаками веселюсь, со злодеями злобствую, творю добро с добродетельными, словом, вылезаю из собственной скорлупы, из своего «я» и глаголю устами детей, женщин и стариков: я – король и нищий; могучий тиран и презираемый всеми подъяремный тираноборец; я вездесущ и многолик, любую веру готов признать своей, и всем эпохам принадлежит моя жизнь, – только сам себе я больше не принадлежу. Состояние это дарит мне ни с чем не сравнимое счастье.
Но к обеду я завершаю работу, – в этот день я уже больше не стану писать, и тут для меня наступает такая мука, что сумерки мнятся мне предвозвестием смерти. А сумерки тянутся ужас как долго. Другие люди после дневного труда находят развлечение в беседе с друзьями, мне же нечем развлечься. Тишина обступает меня, я пытаюсь читать, но сил уже нет ни на что. Тогда я начинаю мерять шагами комнату, поглядывая на часы, когда же они пробьют десять. И скоро они бьют десять.
Я сбрасываю одежду, вместе со всеми этими пуговицами, пряжками, кнопками и тесемками, – и душе моей приходит черед вздохнуть свободнее и сбросить гнет. Совершив омовение на восточный лад, я ложусь в кровать, и тут будто рассыпается все бытие: воля к жизни, к битвам, к борьбе угасает, а сонливость весьма сродни жажде смерти.
Но сначала я отдаю полчаса медитации – читаю духовные книги, которые выбираю всякий раз по настроению. Иногда я беру католическую книгу, от которой веет апостольским, традиционным христианством; подобно латыни и греческому – это наши истоки, ведь католическое христианство – начало начал нашей, моей культуры. Погружаясь в римский католицизм, я чувствую себя римским гражданином. И одновременно – гражданином Европы; к тому же вплетенные в текст латинские стихи напоминают мне, что я образованный человек. Я не католик, никогда им не был да и не намерен связывать себя принадлежностью к тому или иному вероисповеданию. Иногда я беру старую лютеранскую книгу – с псалмом на каждый день года – и пользуюсь ею как жупелом. Книга эта написана в XVII веке, когда людям на земле жилось худо. Потому и сочинитель ее на редкость суров и превозносит страдание как некую божью милость и благодать. Лишь невзначай случается ему обронить доброе слово, поистине он способен довести читателя до отчаяния, и потому я вступаю с ним в поединок. «Неверно все это, – говорю я себе, – это всего лишь испытание моих душевных сил. Ибо католический автор объяснил мне, что искуситель творит самое злое дело, стремясь столкнуть человека в пропасть отчаяния, отнять у него надежду, а надежда для католика – непременная добродетель, ведь суть веры в том, чтобы ждать от бога добра, а приписывать богу зло – это от дьявола».
Изредка достаю я другую, странную книгу, изданную в XVIII столетии, в век Просвещения. Автор ее неизвестен, и я затрудняюсь сказать, кто он – католик, лютеранин или кальвинист [6 - Кальвинисты – последователи учения одного из деятелей Реформации Жана Кальвина (1509 – 1564).], в книге, однако, заключена христианская жизненная мудрость – мудрость человека, который хорошо знал мир и людей, да притом еще был и поэт и ученый. Этот автор всегда говорит мне именно то, что в этот день, в этот час мне необходимо услышать. И если в какой-то миг все восстанет во мне против неправомерных и нелепых его требований к смертному человеку, то в следующий миг автор сам же и приведет все мои возражения. Он, что называется, разумный малый, который трезво смотрит на вещи и умеет расставить по своим местам праведное и неправедное. Слегка напоминает он Якоба Бёме [7 - Якоб Бёме (1575 – 1624) – немецкий философ, представитель пантеизма.], считавшего, что всякое явление содержит в себе и «да» и «нет».
Другие электронные книги автора Август Юхан Стриндберг
Другие аудиокниги автора Август Юхан Стриндберг
Детская сказка




 4.5
4.5