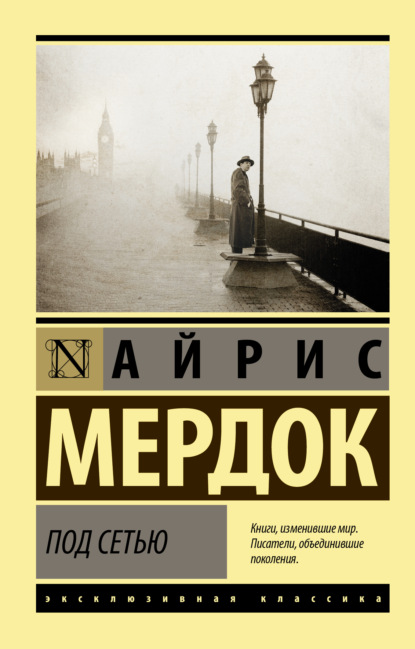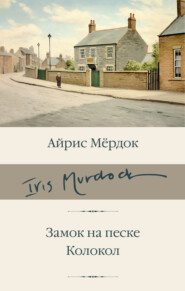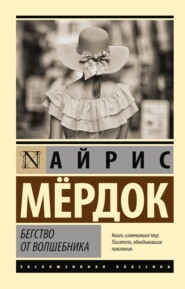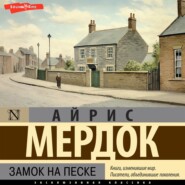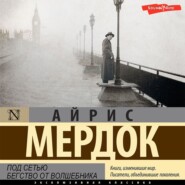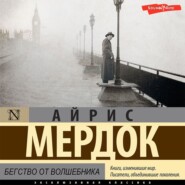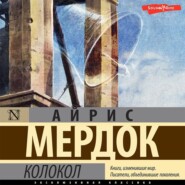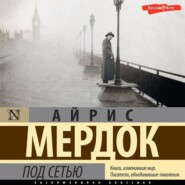По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Под сетью
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не знаю, что ты имеешь в виду, – сказала Мэдж. – Но если тебе так уж интересно, мы познакомились в одиннадцатом автобусе.
Это была явная ложь. Я покачал головой.
– Ты избрала карьеру манекенщицы, – сказал я. – Тебе предстоит посвятить все время тому, чтобы олицетворять кричащее богатство. – И тут же у меня мелькнула мысль, что такая жизнь, может быть, и не самая скверная.
– Джейк, уезжай, пожалуйста, – сказала Магдален.
– Как бы то ни было, – сказал я, – не здесь же ты будешь жить со Святым Сэмми?
– Эта квартира будет нам нужна, и я хочу, чтобы тебя здесь не было.
Ее ответ показался мне уклончивым.
– Ты сказала, что выходишь замуж? – спросил я. Меня снова кольнуло сознание ответственности. У нее не было отца, и я почувствовал себя in loco parentis[1 - В роли отца (лат.).]. Другого locus’a у меня, в сущности, и не осталось. И теперь я сообразил, что Старфилд едва ли захочет жениться на такой девушке, как Магдален. Вешать на нее меховые манто можно было с таким же успехом, как на всякую другую живую вешалку. Но эффектна она не была, как не была ни богата, ни знаменита. Славная, здоровая молодая англичанка, простая и милая, как майский праздник в деревне. У Старфилда, надо полагать, вкусы куда более экзотические и менее матримониальные.
– Вот именно, – сказала Мэдж подчеркнуто и все так же невозмутимо. – А теперь иди укладываться. – Но по тому, как она избегала встречаться со мной взглядом, было ясно, что совесть у нее неспокойна.
Она подошла к книжной полке.
– Тут, кажется, есть твои книги. – И она достала «Мэрфи» и «Pierrot mon ami».
– Освобождаем место для господина Старфилда, – сказал я. – А он читать умеет? И кстати говоря, он знает о моем существовании?
– Допустим, что знает, – увильнула Магдален, – но я не хочу, чтобы вы встречались. Поэтому я и посылаю тебя укладываться. С завтрашнего дня Сэмми будет проводить здесь много времени.
– Ясно одно, – сказал я. – Все зараз я перевезти не могу. Часть вещей я заберу сегодня, а за остальным приеду завтра. – Я не выношу, когда меня торопят. – И не забудь, – добавил я пылко, – что радиола моя. – Мысли мои неотступно возвращались к банку Ллойда.
– Хорошо, милый, – сказала Мэдж, – но если захочешь прийти завтра или позже, сначала позвони, и если ответит мужской голос, клади трубку.
– Какая гадость, – сказал я.
– Да, милый. Такси вызвать?
– Нет! – крикнул я, выходя из комнаты.
– Если Сэмми увидит тебя здесь, – прокричала Магдален мне вслед, когда я уже поднимался по лестнице, – он свернет тебе шею!
Я взял второй чемодан, завернул и связал свои рукописи и вышел на улицу. Нужно было подумать, а в такси я не могу думать, потому что все время смотрю на счетчик. Я сел в 73-й автобус и поехал к миссис Тинкхем. Миссис Тинкхем держит газетную лавочку в районе Шарлотт-стрит. Это пыльная, грязная, невзрачная угловая лавчонка, снаружи у двери висит доска с объявлениями, а внутри продаются газеты на разных языках, дамские журналы, ковбойские и научно-фантастические романы и «Поразительные повести». Во всяком случае, все это разложено для продажи, вернее, кое-как свалено в стопки, хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь купил у миссис Тинкхем, кроме мороженого, которым она тоже торгует, и еще «Ивнинг ньюс». Прочая литература годами лежит неподвижно, выцветая на солнце, разве что сама миссис Тинкхем вздумает почитать – такое на нее порой находит – и вытянет из кучи какой-нибудь пожелтевший от времени ковбойский роман, а дочитав до половины, скажет, что, оказывается, уже читала его, только все забыла. Вероятно, она прочла уже весь свой товар – его немного, и пополняется он медленно. Несколько раз я видел у нее в руках французскую газету, хотя она и говорит, что не знает французского, но, может быть, она просто разглядывает иллюстрации. Кроме контейнера с мороженым в лавке стоят железный столик и два стула, а на полке – бутылки с красными и зелеными безалкогольными напитками. Здесь я провел немало мирных часов.
Лавка миссис Тинкхем отличается также тем, что она полна кошек. Неуклонно растущее кошачье семейство, происшедшее от одной огромной прародительницы, располагается на прилавке и на пустых полках в сонливом созерцании: янтарные глаза сужены и помаргивают на солнце – ленивые влажные щелки среди изобилия прогретой шерсти. Когда я прихожу, какая-нибудь кошка соскакивает ко мне на колени и, посидев сколько полагается, солидно и бесстрастно, ускользает затем на улицу любоваться витринами. Но ни одной из них я ни разу не встречал дальше чем за десять шагов от лавки. Посреди этого великолепия восседает сама миссис Тинкхем и курит сигарету. Я не знаю другого человека, который курил бы, как она, буквально не переставая. Она закуривает одну сигарету от остатка другой; как она утром закуривает первую – это для меня тайна, потому что, если попросить у нее спичек, их в доме никогда не оказывается. Однажды я застал ее в великом смятении и горе – очередная сигарета упала в чашку с кофе, а зажечь новую было нечем. Может быть, она курит всю ночь, а может быть, в спальне у нее горит вечный огонь – какая-нибудь неугасимая сигарета. Эмалированный тазик у нее в ногах обычно до краев полон окурков; а рядом с ней, на прилавке, стоит маленький радиоприемник, который всегда включен, но самую малость, так что миссис Тинкхем проводит время среди своих кошек, окутанная табачным дымом, под непрестанный аккомпанемент чуть слышного музыкального бормотанья.
Я вошел, сел, как обычно, за железный столик и снял одну из кошек с ближайшей полки к себе на колени. Она тут же замурлыкала, как пущенная в ход машина. Я улыбнулся миссис Тинкхем – в тот день это была моя первая натуральная улыбка. На языке Финна миссис Тинкхем – занятная реликвия, но ко мне она была очень добра, а я никогда не забываю доброе отношение.
– Вот и вернулись домой, – сказала миссис Тинкхем, откладывая томик «Поразительных повестей», и еще немного приглушила радио, так что остался только невнятный шепот где-то на заднем плане.
– Да, к сожалению, – отвечал я. – Миссис Тинк, как бы стаканчик чего-нибудь?
Я уже давно храню у миссис Тинкхем запас виски на случай, если оно мне понадобится в медицинских целях, в спокойной обстановке, в центре Лондона, в неурочное время. Сейчас время было урочное, но мне нужна была успокоительная тишина лавчонки миссис Тинкхем, с мурлычущей кошкой, шепчущим радио и самой миссис Тинк – языческой богиней, окутанной фимиамом. Когда я завел эту систему, я вначале после каждого раза делал на бутылке пометку, в то время я еще плохо знал миссис Тинкхем. По надежности ее можно приравнять к закону природы. И она умеет молчать. Однажды я случайно услышал, как один из ее странных клиентов после тщетных попыток что-то у нее выведать громко воскликнул: «Вы просто патологически деликатны!» И это истинная правда. Я подозреваю, что этим и объясняется успех миссис Тинкхем. Ее лавка служит так называемым передаточным пунктом и местом встречи для людей, которые любят вести свои дела под шумок. Интересно бы знать, в какой мере миссис Тинкхем осведомлена о делах своих клиентов. Когда я далеко от нее, я убежден, что она не так наивна, чтобы не представлять себе, что происходит у нее под носом. Когда же она рядом, она выглядит такой толстой и расплывчатой и моргает так похоже на своих кошек, что меня берет сомнение. Порой мне случается краем глаза подметить на ее лице выражение острой проницательности; но как бы я быстро ни обернулся, я ни разу не успел прочесть на этом лице ничего, кроме безмятежной материнской озабоченности и более или менее рассеянного участия. Какова бы ни была истина, верно одно: никто никогда этого не узнает. Полиция давно махнула рукой на миссис Тинкхем: допрашивать ее значило даром терять время. Мало она знает или много, но ни разу на моей памяти ни ради выгоды, ни ради сенсации она не показала своей осведомленности о том, что творится в тесном мирке, окружающем ее лавку. Неболтливая женщина – это жемчужина на черном бархате. Я глубоко уважаю и люблю миссис Тинкхем.
Она налила виски в картонный стаканчик и передала мне через прилавок. Сама она при мне не выпила ни капли спиртного.
– Коньяку не привезли, голубчик? – спросила она.
– На таможне отобрали, – сказал я и, отхлебнув виски, добавил: – Чтоб им пусто было! – сопроводив эти слова жестом, который охватывал таможню, Мэдж, Старфилда и мой банк.
– Что случилось, голубчик? Опять настало трудное время? – спросила миссис Тинкхем, и, склонясь над стаканом, я успел заметить, что в ее глазах мерцает прозорливый огонек. – Ох уж эти люди, сплошные от них неприятности, верно? – добавила она тем масленым голосом, который, надо полагать, вынудил не одно признание.
Я уверен, что с миссис Тинкхем откровенничают почем зря. Бывало, что, входя в лавку, я безошибочно это чувствовал. Я и сам с ней откровенничал и думаю, что для многих своих клиентов она единственный человек, которому вполне можно довериться. Трудно предположить, чтобы такая роль не приносила известных материальных выгод, и деньги у миссис Тинкхем, безусловно, водятся – однажды она без единого слова дала мне взаймы десять фунтов, – но я уверен, что деньги для нее не главное. Ей просто доставляет наслаждение быть в курсе чужих дел, вернее, жизней, потому что слово «дела» предполагает интерес более узкий и менее человечный, нежели тот, который в эту минуту был сосредоточен на мне, если только я этого не вообразил. В самом деле, возможно, что истина относительно ее наивности или отсутствия таковой лежит где-то посередине, что она пребывает в мире чужих жизненных драм, где факты и вымысел почти неотделимы друг от друга.
Что-то тихо звучало у меня в ушах, может быть, радио, а может, это миссис Тинкхем колдовала, чтобы вызвать меня на откровенность; точно кто-то осторожно сматывал тонкую леску, на которой повисла вот-вот готовая сорваться редкостная рыбина. Но я крепился и молчал. Я хотел подождать, пока не смогу изложить свою историю более драматично. Тут намечались кое-какие возможности, но ничего еще не оформилось. Заговорив сейчас, я мог невзначай сказать правду; когда меня застигают врасплох, я обычно говорю правду, а что может быть скучнее? Я встретил взгляд миссис Тинкхем и, хотя глаза ее ничего не сказали, не сомневался, что она прочла мои мысли.
– Люди и деньги, миссис Тинк, – сказал я. – Не будь их, как хорошо было бы жить на свете.
– И еще зов пола, – сказала миссис Тинкхем; мы оба вздохнули.
– Котята за последнее время были? – спросил я.
– Нет, но Мэгги опять в интересном положении. Да, скоро, скоро будут у тебя детки! – обратилась она к раскормленной пестрой кошке, разлегшейся на прилавке.
– Думаете, на этот раз получилось?
Миссис Тинкхем уже давно убеждала своих кошек гулять с сиамским красавцем, проживавшим неподалеку. Правда, все ее уговоры сводились к тому, что она время от времени подносила какую-нибудь из кошек к двери и указывала ей на этого интересного мужчину со словами: «Погляди, какой там миленький котик!» – и пока что ничего из этого не выходило. Если вы когда-нибудь пытались привлечь внимание кошки к определенному предмету, то знаете, как это трудно. Она будет смотреть куда угодно, только не туда, куда вы указываете.
– Как бы не так, – сердито отвечала миссис Тинкхем. – У них у всех только и на уме что черно-белый кот из конинной лавки. Верно говорю, моя красавица, да? – снова обратилась она к будущей мамаше, а та в ответ вытянула вперед тяжелую лапу и вонзила когти в стопку «Nouvelles littеraires»[2 - «Новости литературы» (фр.).].
Я стал развертывать свой пакет. Кошка соскочила с моих колен и бочком выскользнула за дверь. Миссис Тинкхем сказала: «Так-то» – и потянулась к «Поразительным повестям».
Я быстро перебрал свои рукописи. Когда-то Магдален, обозлившись, разорвала первые шестьдесят строф эпической поэмы «А мистер Оппенгейм наследует землю». Поэма писалась в те времена, когда у меня были идеалы. В те времена мне еще не стало ясно, что писать эпические поэмы в наш век невозможно. В те времена я наивно воображал, что нет оснований не пробовать свои силы в любом жанре, к которому тебя тянет. Ничто не действует так парализующе, как чувство исторической перспективы, особенно в литературе. Вероятно, в какой-то момент нужно просто отбросить всякие теоретические соображения. Я, например, сумел их отбросить чуть пораньше того момента, когда мне стало бы ясно, что в наш век невозможно писать романы. Однако вернемся к «Мистеру Оппенгейму». Мои друзья не одобрили это заглавие, усмотрев в нем антисемитский душок, хотя мистер Оппенгейм, разумеется, просто символизирует большой бизнес; но Мэдж разорвала поэму не за это, а со злости: я не пошел с ней завтракать, как условился, потому что должен был встретиться с одной писательницей. Встреча эта ничего мне не дала, а дома меня ждал «Мистер Оппенгейм», разорванный в клочья. Это было давно, но я опасался повторения. Кто знает, какие мысли бродили в голове у этой женщины, когда она принимала решение вышвырнуть меня на улицу? Если женщина наносит вам обиду, то обычно вы же и вызываете ее ярость. Я по себе знаю, как выводит из себя человек, которого бываешь вынужден обидеть. Поэтому я перебрал рукописи очень внимательно.
Все как будто было в порядке, если не считать одной недостачи. Не хватало написанного на машинке перевода «Le rossignol de bois». Этот «Деревянный соловей» был третьим с конца романом Жан-Пьера Бретейля. Я делал его прямо на машинке. Я уже столько переводил Жан-Пьера, что теперь дело только за тем, чтобы как можно быстрее стучать по клавишам. Копирку я не выношу – руки у меня неловкие, а что такое листы копирки, вам известно, – поэтому у меня был всего один экземпляр. Но за него я не опасался, я знал, что если бы Магдален вздумала что-нибудь уничтожить, то выбрала бы не перевод, а одну из моих собственных вещей. Я решил забрать перевод в следующий раз – вероятно, он остался в бюро на третьем этаже. «Le rossignol» будет хорошо раскупаться, а значит, у меня будут деньги. Это роман о молодом композиторе, который лечится психоанализом и в результате творчески иссякает. Переводил я его с удовольствием, хотя это не более чем расхожее чтиво, как и все, что пишет Жан-Пьер.
Дэйв Гелман уверяет, что я специализировался на Бретейле потому, что сам хотел бы писать такие книги, но это неверно. Я потому перевожу Бретейля, что это легко, и еще потому, что книги его на любом языке идут нарасхват. А потом, мне, как это ни противоестественно, просто нравится переводить: как будто ты открываешь рот, а говорит кто-то другой. Предпоследнему роману Жан-Пьера «Les pierres de l’amour»[3 - «Камни любви» (фр.).], который я только что прочел в Париже, тоже был обеспечен успех. А совсем недавно вышел еще один, «Nous les vainqueurs»[4 - «Мы, победители» (фр.).], его я еще не успел прочесть. Я решил повидаться со своим издателем и получить аванс под «Деревянного соловья», а заодно продать ему идею, которая возникла у меня в Париже, – сборник французских рассказов в моем переводе и с моим предисловием. Ими-то и были набиты мои чемоданы. Это даст мне кое-какие средства к существованию. Что бы ни писать, лишь бы не свое, как говорит Дэйв. В банке у меня, по моим расчетам, оставалось фунтов семьдесят. Но теперь, когда на Эрлс-Корт-роуд мне больше не было ходу, первая и самая насущная задача состояла в том, чтобы найти дешевое и надежное пристанище, где можно жить и работать.
Вы можете подумать, что Магдален поступила жестоко, так бесцеремонно меня выгнав, а я со своей стороны проявил бесхарактерность, приняв это так покорно. Но Магдален вовсе не бандит. Это жизнерадостная, земная женщина, простая и сердечная, готовая услужить кому угодно, если только это не доставляет ей хлопот; о многих ли из нас можно сказать больше? У меня же в отношении Мэдж совесть была нечиста. Раньше я сказал, что почти ничего не платил за квартиру. Так вот, это не совсем верно, я не платил за квартиру ничего. Эта мысль меня слегка беспокоила. Принимать подачки от женщины вредит locus standi[5 - Здесь: самоуважение (лат.).]. К тому же я знал, что Мэдж хочется выйти замуж. Она не раз давала мне это понять, и думаю, она вышла бы замуж даже за меня. Только я-то хотел другого. По обеим этим причинам я понимал, что на Эрлс-Корт-роуд у меня нет ни малейших прав и что, если Мэдж ищет прочного существования, винить в этом я могу только себя; впрочем, я, кажется, был вполне объективен, считая, что Святой Сэмми – дело не верное, а, напротив, очень даже проблематичное.
Здесь, пожалуй, нелишним будет сказать несколько слов о себе. Зовут меня Джеймс Донагью, но пусть ирландская фамилия вас не смущает – в Дублине я был всего один раз, по пьяной лавочке, и в себя пришел всего два раза – когда меня выпускали из полицейского участка на Стор-стрит и когда Финн сажал меня на пароход, возвращавшийся в Англию. Это было в те дни, когда я много пил. Мне чуть больше тридцати лет, и я талантлив, но ленив. Живу я всякими литературными поделками и кое-что пишу всерьез, очень мало, как можно меньше. В наши дни литературной работой можно жить, только если работаешь с утра до ночи и согласен писать все, на что есть спрос. Я уже упоминал, что ростом я невысок, но точнее будет сказать, что я худощав и изящно сложен. У меня светлые волосы и резкие, как у фавна, черты лица. Я силен в дзюдо, а бокс не люблю. Важнее для этой повести то, что у меня истрепаны нервы. Как это случилось, не важно. Это другая история, а я вам рассказываю не всю историю моей жизни. Так или иначе, они истрепались, и выражается это, между прочим, в том, что я не могу подолгу оставаться один. Вот почему мне так нужно общество Финна. Мы часами сидим с ним вдвоем, иногда в полном молчании. Я, скажем, думаю о Боге, о свободе, о бессмертии. О чем может думать Финн, понятия не имею. Но более того, я терпеть не могу жить в чужих домах, мне нужна защита. Следовательно, я паразит и обычно живу у кого-нибудь из знакомых. Это удобно и с финансовой точки зрения. Принимают меня охотно, потому что жилец я спокойный, а Финн может быть полезен по дому.
Предстояло решить нелегкую задачу – куда нам податься. Приютит ли нас Дэйв Гелман, было неясно. Я тешил себя этой мыслью, но не очень-то надеялся. Дэйв – старый друг, но он философ – не из тех, что толкуют про гороскопы и звериное число, а настоящий, как Платон или Кант, а значит, у него нет денег. Я чувствовал, что предъявлять Дэйву какие-либо требования не совсем этично. К тому же он еврей, настоящий, стопроцентный еврей, который соблюдает посты, верит, что грех неискупим, и считает неприличным рассказ о женщине, разбившей алебастровый сосуд с драгоценным елеем, и многие другие истории в Новом Завете. Но это бы еще ничего, хуже то, что он без конца спорит с Финном по поводу Святой Троицы, бесполезности чувств и понятия милосердия. Дэйв ничего не ненавидит так, как понятие милосердия, которое он приравнивает к своего рода духовному обману. Послушать Дэйва, так милосердие попросту порождает двуличие и представление, будто человеку что угодно может сойти с рук. Он говорит, что люди должны руководствоваться четкими практическими правилами, а не туманным светом высоких понятий, которыми, по его мнению, прикрывают всевозможные излишества. Дэйв – один из немногих, с кем Финн ведет долгие беседы. Стоит, пожалуй, разъяснить, что Финн когда-то был католиком, хотя по темпераменту он методист – так мне по крайней мере кажется, – и с Дэйвом он проявляет красноречие. Финн вечно твердит, что вернется в Ирландию, чтобы жить в стране, где религия действительно что-то значит, но все не уезжает. Так что я решил, что у Дэйва будет не особенно спокойно. Я предпочитаю, чтобы Финн не говорил слишком много. Раньше я сам любил поговорить с Дэйвом о всяких отвлеченных материях. Когда мы познакомились, мне было приятно, что он философ, и я надеялся, что он откроет мне какие-нибудь важные истины. Я в то время читал Гегеля и Спинозу, хотя, признаюсь, мало что в них понимал, и все хотел обсудить их с Дэйвом. Но почему-то у нас ничего не выходило, и все наши диспуты сводились к тому, что я что-нибудь говорил, а Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать, и я повторял все сначала, а Дэйв сердился. Я не сразу сообразил, что, когда Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать, это значило, что я, по его мнению, сболтнул глупость. Гегель говорит, что Истина – великое слово и еще более великая вещь. С Дэйвом у нас дальше слова дело не двигалось, и я наконец отступился. Но все-таки я Дэйва очень люблю, у нас есть и еще много тем для разговора, так что я не отказался от идеи вселиться к нему. Других идей у меня, впрочем, и не было. Придя к такому заключению, я достал из чемодана часть своих книг и вместе с пакетом рукописей оставил под прилавком у миссис Тинкхем. Потом я простился с ней и пошел закусить.
Глава 2
Некоторые части Лондона органичны, другие случайны. К западу от Эрлс-Корт-роуд все случайно, кроме нескольких мест у реки. Я терпеть не могу ничего случайного. Я хочу, чтобы на все в моей жизни имелись причины. Дэйв жил к западу от Эрлс-Корт-роуд, и в моих глазах это тоже было его минусом. Он жил близ Голдхок-роуд, в одном из тех больших красновато-черных домов, которые я хорошо помнил еще с мрачных дней моего лондонского детства. Дэйв, мне кажется, не очень чувствителен к своему окружению. Его, как философа, интересует центральный узел бытия (он, правда, не простил бы мне этого выражения), а не те беспорядочно висящие концы, которыми большинство из нас вынуждены развлекаться. К тому же он, будучи евреем, чувствует себя частью истории, не прилагая к тому особых усилий. В этом я ему завидую! Мне лично поддерживать связь с историей год от года труднее. В общем, Дэйву доступна такая роскошь, как случайное местожительство. Для себя я на этот счет сомневался.
Дом, где живет Дэйв, многоэтажный, но кажется низким рядом с соседним зданием – огромной новой белостенной больницей. В ней все просто и все оправданно, и меня, когда я прохожу мимо, бросает в дрожь. По темной, с цветными стеклами лестнице я поднялся до квартиры Дэйва и услышал гул голосов. Это мне не понравилось. У Дэйва слишком много знакомых. Его жизнь – нескончаемый tour de force[6 - Фокус, трюк (фр.).] дружеской близости. Я, например, считаю, что дружить одновременно больше чем с четырьмя людьми безнравственно. А у Дэйва, судя по всему, близких людей больше сотни. У него широкий и постоянный круг знакомств среди интеллигенции и людей искусства, а вдобавок он знает уйму левых политических деятелей, в том числе таких оригиналов, как Лефти Тодд, лидер Новой независимой социалистической партии, и других чудаков, еще почище. Кроме того, имеются его ученики, и их друзья, и неуклонно растущая орава его бывших учеников. Чуть ли не все, с кем Дэйв когда-либо занимался, сохраняют с ним связь. Для меня это загадка – ведь мне, как я уже упоминал, Дэйв не мог ничего преподать, когда мы беседовали на философские темы. Может быть, это объясняется тем, что я неисправимый художник, как он сам однажды воскликнул. Тут кстати будет добавить, что Дэйв не одобряет моего образа жизни и вечно уговаривает меня поступить на работу.
Дэйв – преподаватель университета, но занятия ведет на дому, и вокруг него группируется немало юношей, посвящающих часть своего времени поискам Истины. Ученики обожают Дэйва, хотя он ведет с ними непрестанную борьбу. Они тянутся к нему, как подсолнухи к солнцу. Все они прирожденные метафизики, так по крайней мере утверждает не без отвращения сам Дэйв. Мне бы казалось, что быть метафизиком замечательно, но у Дэйва это вызывает страстный протест. Для учеников Дэйва мир – тайна, к которой они считают возможным подобрать ключ. Ключ этот, надо полагать, содержится в какой-то книге страниц этак на восемьсот. Найти его, может быть, и нелегко, но ученики Дэйва убеждены, что, уделяя поискам от четырех до десяти часов в неделю, за вычетом университетских каникул, они своего добьются. Им не приходит в голову, что задача эта либо много проще, либо много сложнее. В известных пределах они готовы менять свои взгляды. Многие из них приходят к Дэйву теософами, а уходят от него рационалистами или брэдлеанцами. Интересно, что критика Дэйва часто действует как катализатор. Он жжет их с разрушительной яростью солнца, но от этого их метафизические устремления не вянут и не сгорают, а лишь переходят из одной стадии в другую, не менее активную. Это любопытное обстоятельство наводит на мысль, что Дэйв, в сущности, хороший педагог, хотя в том и нет его заслуги. Время от времени ему удается приобщить какого-нибудь сверхвосприимчивого юношу к собственной философской школе лингвистического анализа, после чего означенный юноша, как правило, вообще перестает интересоваться философией. Наблюдать, как Дэйв обрабатывает этих молодых людей, все равно что следить за работой человека, подрезающего розовый куст. На удаление обречены все самые крепкие и пышные побеги. А позднее, возможно, появятся цветы; но цветы, как рассчитывает Дэйв, не философские. Конечная цель Дэйва – отвратить молодежь от философии. Меня он отваживает от нее с сугубым усердием.
Я в нерешительности остановился у двери. Ненавижу входить в комнату, полную народу, и чувствовать, как к тебе оборачивается целая портретная галерея незнакомых лиц. Я уже готов был повернуться и уйти, но потом, мысленно махнув рукой, все же вошел. Комната была битком набита молодыми людьми; они говорили все разом и пили чай, но относительно лиц я напрасно беспокоился – никто, кроме самого Дэйва, не обратил на меня внимания. Дэйв сидел в углу, немного в стороне от схватки, и, увидев меня, поднял руку важным жестом патриарха, приветствующего давно ожидаемое знамение. Я не хочу сказать, что по внешности Дэйв напоминает иудейского патриарха. Он уже начал понемножку толстеть и лысеть, у него веселые карие глаза и пухлые руки, говорит он чуть гортанным голосом и английским владеет не вполне свободно. Финн сидел рядом с ним на полу, прислонившись к стене и вытянув ноги вперед, как жертва уличной катастрофы.