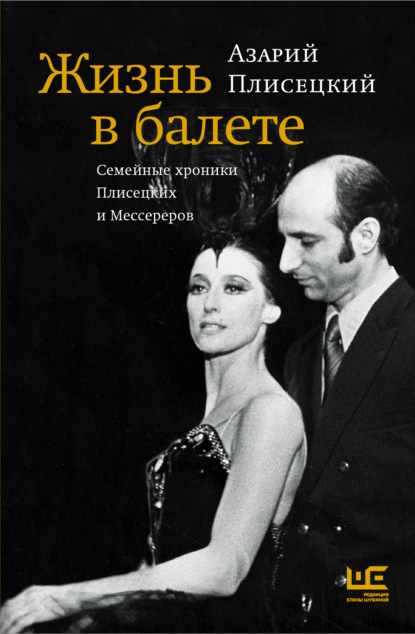По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
“На меня Меркулов посматривал липким, раздевающим взглядом, но рук не распускал.
– Видел вас на сцене, – очень медленно, почти по буквам произнес он.
Я продолжала причитать: младенец-то не виновен. Ведь законы у нас гуманные…
Выслушав рассказ о мытарствах Рахили, Меркулов неожиданно молвил веско:
– Примем меры. Сможете поехать, перевезти сестру. Будет дано указание”.
И случилось невозможное: маму освободили из АЛЖИРа и отправили в ссылку в Чимкент под гласный надзор милиции, заменив восемь лет трудовых лагерей на восемь же лет вольного поселения в пределах Казахстана.
Я был слишком мал, чтобы запомнить подробности долгожданного освобождения, поэтому снова позволю себе обратиться к дневникам моей мамы:
“Мне сказали, что видели Миту. Я побежала к «проходной». Тысячи женщин прильнули к стене проволочного заграждения. Я спустила с рук Азарика, и он через проходную выбежал к Мите. Он бежал навстречу ей, расправив ручки, как будто знал ее, а она бежала к нему. Женщины зарыдали в голос. Я стояла, как окаменелая, не веря в то, что вижу. Те, кто был в этом лагере из моих близких знакомых, при каждой встрече со мной уже на воле вспоминали эту незабываемую картину. Люба Бабицкая, с которой я иногда сейчас встречаюсь, всегда говорит, что в ушах у нее стоит этот вой и рыдания женщин, а перед глазами – бегущий к Мите Азарик”.
Первые мои шаги были сделаны по акмолинской земле, и там же я произнес свои первые осознанные слова: “Хочу за зону”. Зоной был лагерь. Но иногда опутанные колючей проволокой ворота открывались, и передо мной представал во всем своем многообразии совершенно другой мир – с высоченными тополями, со степью до горизонта, с жуками и кузнечиками, с бескрайним синим небом и плывущими по нему облаками. Под впечатлением от этой картины я, маленький, задрав голову кверху, завороженно произносил:
– Какое красивое небо на небе, как вата!
Сам я, конечно, не помню ни этих своих слов, ни лагеря, от которого у меня сохранились на всю жизнь лишь неосознанный страх собачьего лая и боязнь военной формы.
Попав в 2010 году по приглашению Нурсултана Назарбаева на форум “Память во имя будущего” в Астану, бывший Акмолинск, я пытался сопоставить то, что вижу, с мамиными воспоминаниями. Но не сохранилось ни бараков, в которых ютились узницы АЛЖИРа, ни ворот с колючей проволокой… Мы пошли по степи, вдоль арыка. Поразил гомон и гам воронья. По казахским преданиям, там, где пролилась кровь, воронье продолжает гнездиться еще двести лет.
Чимкент
К железнодорожным путям, на которых стояли вагоны для перевозки заключенных, мама шла очень медленно, еле-еле переставляя ноги. Надо было оттянуть время, чтобы до того, как мы попадем внутрь теплушки, Мита успела вернуться от начальника головного казахстанского лагеря “Долинка” по фамилии Монарх с разрешением репрессированной сестре и ее маленькому сыну ехать вместе с ней в купе. Сопровождали маму два конвоира: один шел впереди, а тот, что сзади, подталкивал ее в спину прикладом ружья. Никто не помогал нести вещи, и приходилось часто останавливаться, чтобы переложить меня из одной руки в другую, а освободившейся вновь схватиться за чемодан.
К счастью, Мита успела. Заветная бумага позволила нам избежать месячной поездки в закрытом вагоне для скота. Мама рассказывала, что я тогда очень мучился желудком и в невыносимых условиях теплушки она бы не довезла меня до Чимкента живым.
Поселились мы на Туркестанской улице в глиняной мазанке с земляным полом, служившей бухарскому еврею Исааку не то курятником, не то телятником. За символические деньги он сдал нам по доброте душевной это немудреное жилье. Сам Исаак вместе с необъятных размеров женой Иофой и маленьким сыном Яковом жил в приличном доме с крыльцом.
Величайшим удовольствием и главным развлечением для меня было тогда прокатиться в повозке Исаака, запряженной ишаком.
Я кричал ему:
– Эй, Ишак, покатай меня на ишаке!
Исаак очень обижался, но сажал меня в повозку, накрывал пологом из овечьей кожи и катал.
Мита вскоре вынуждена была вернуться в Москву. Она уехала сразу, как только ей удалось устроить маму на работу. Мама начала преподавать танцы в местной школе. Не имея специального хореографического образования, она, вспоминая спектакли и репетиции в Большом театре, легко воспроизводила перед детишками элементарные па. Позже она даже организовала балетный кружок при Доме культуры. На концертной эстраде-раковине мама ставила самодеятельные спектакли, в одном из которых участвовала и Майя, приехавшая в Чимкент на каникулы. Она танцевала первые наброски знаменитого “Умирающего лебедя”, поставленного для нее Митой.
Майя ехала в Казахстан в сопровождении Нодика. Мита никогда бы не отпустила четырнадцатилетнюю племянницу одну в столь далекое путешествие. Из Москвы они привезли мне педальную машину. Радости не было предела! Но, к сожалению, прокатиться на этой машинке мне так и не пришлось. Меня опередила Иофа, жена Исаака. Не успели мы ахнуть, как толстая Иофа с воплем: “Ой, какая машинка! Я тоже хочу в нее сесть!” плюхнулась на детский автомобильчик и… расплющила его. Как же я горевал!
Майя в Чимкенте учила меня выговаривать букву “Р”, которая в моей интерпретации звучала как “Е”. Она заставляла повторять песенку: “На рыбалке у реки тянут сети рыбаки”, это приводило ее в восторг. Потом она начинала хлопать в ладоши, задавая несложный ритм, под который я прыгал, стоя в своей кроватке в длинной ночной рубашке. Майя радовалась:
– Ой, мама, он танцует лезгинку!
В памяти возникает такой эпизод. Я сижу в эмалированном тазу, который в силу малого возраста казался мне огромным. Эмаль на дне таза отколота, и проглядывается черный силуэт, при виде которого Майя восклицает:
– Как похож на Пушкина!
Так имя Пушкина прочно вошло в мое сознание.
Из тех же лет у меня сохранилось еще одно яркое воспоминание – сверкающий красный шар, который вместе с прочими елочными игрушками привез нам к Новому году Нодик. Я был поражен красотой этого шара и попросил маму, наряжавшую елку, дать мне его. Я не уловил момента, когда шар выскользнул из моих рук и разбился, но то, как эта красота в одно мгновение превратилась в россыпь мельчайших осколков, запомнил на всю жизнь.
По соседству с домом Исаака, буквально через забор, обитала татарская семья с тремя детьми, имена которых начинались на букву “Р”: Равиль, Ринат и девочка Раилька. Я любил играть с ними в “самолет”. Вдыхая чимкентскую пыль, мы носились по улице и изображали пропеллер, вращая перед собой руку, – казалось, вот-вот взлетишь!
Моя детская память не сохранила Чимкент маленьким захолустным городком, каким он и был в то время. Перед моими глазами совершенно иная картинка: дорожка от мазанки до калитки, стройные тополя, уходящие куда-то в небо, мягкий тополиный пух, смешанный с теплой пылью дороги, по которой приятно бегать босиком. Наш участок опоясывал арык, в который я с радостью бросался, несмотря на малое количество воды.
Много позже, уже повзрослев, чтобы проверить свою память, я нарисовал план участка: дом Исаака, калитку, арык, колодец, нашу глиняную мазанку… и показал его маме. Она была поражена точностью моего рисунка.
Я запомнил многое, например снег – редкость в Чимкенте. Мама тогда отправлялась на работу, а я стоял во дворе и смотрел, как снег медленно засыпает дорожку, по которой она уходила. Меня внезапно накрыл дикий ужас: вдруг дорогу занесет так сильно, что мама не сможет вернуться назад?! Я страшно разрыдался. На мой рев сбежались все: Исаак, молчаливая Иофа, брат Алик, который к тому времени жил с нами, – и принялись меня успокаивать. Этот свой плач, первый снег, засыпающий мамины следы, и полное отчаяние от мысли, что мама может больше не вернуться, не забуду никогда.
Мама и на вольном поселении оставалась под гласным надзором. Каждую неделю она должна была вместе с детьми отмечаться в комендатуре, выстаивая длинную очередь. Несмотря на детскую беззаботность, даже я ощущал напряженность – мамина тоска по дому, по отцу, по семье передавалась и мне. Когда она плакала, я утешал ее:
– Не плячь, домом поедем.
Но домой мы смогли вернуться только в апреле 1941 года, проведя в чимкентской ссылке год и восемь месяцев. Произошло это благодаря Асафу, которого после выступления на очередном кремлевском банкете похвалил Сталин. Вождь похлопал его по плечу со словами: “Хорошо танцуешь. Очень высоко прыгаешь! Вот она, – он показал пальцем на сидевшую рядом Ольгу Лепешинскую, – как стрекоза, а ты – как орлик!” Подняв бокал, Сталин сказал, что пьет за Асафа. Сталинская похвала сделала свое дело – Асафу удалось добиться приема у заместителя наркома НКВД Меркулова, и в результате постановление ОСО НКВД о ссылке было отменено, а дело прекращено.
На основании справки об освобождении из ссылки маме выдали паспорт. Паспорта в то время менялись каждые пять лет, поэтому следующее удостоверение личности она получила уже без всякого указания о ссылке.
Война
Из Чимкента в Москву мы вернулись в апреле 1941 года. Два месяца до начала войны ютились у Миты в коммуналке в Щепкинском проезде вшестером: мама, Майя, Алик, я и Мита с мужем, академиком Борисом Кузнецовым. Несмотря на то что маме приходилось спать у самой входной двери на одной раскладушке со мной, четырехлетним, эти условия казались ей просто сказочными после лагерных нар и барака на сотню заключенных.
Продолжалась эта коммунальная “идиллия” недолго. 22 июня 1941 года в полдень Молотов объявил, что германские войска перешли границу и немецкая авиация нанесла удары по нашим приграничным аэродромам, уничтожив стоявшие на них самолеты.
Из неопубликованных воспоминаний моего дяди, Александра Михайловича Мессерера:
“Сталин молчал одиннадцать дней. Лишь 3 июля он выступил по радио. Дрожащим голосом под громкое бульканье льющейся в стакан воды он произнес известное теперь всему миру «Братья и сестры!..» Казалось, что он сейчас грохнется.
21 июля в 10 часов вечера, в ночь на 22-е, ровно через месяц после объявления войны, немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Кругом виднелись пожары. Падали осколки снарядов. Я дежурил на крыше своего дома у Сретенских ворот – угол Б. Лубянки и Рождественского бульвара. В немецкие бомбы были встроены сирены, издававшие дикий вой на большом пространстве так, что казалось, будто бомба летит прямо на тебя. Одна такая бомба, казалось, летела на наш дом. Не знаю, сколько времени она летела – полминуты или 10 секунд, – но казалось, что всему конец. Бомба упала в Большом Кисельном переулке, по прямой – метров сто пятьдесят от нас. В нашем же доме только стекла вышибло.
Траектории трассирующих пуль, летящих со всех сторон, создавали светящийся купол под небом. Это казалось бы красиво, если б не было так страшно.
Немцы в эту первую ночь спускали осветительные ракеты. Они долго держались в воздухе, и было очень светло, и немцам хорошо были видны объекты, которые они хотели бомбить. Но и их самолеты были видны нашим зенитчикам. В эту ночь было сбито много немецких самолетов”.
После этого бомбы сыпались на столицу почти еженощно. Во время воздушной тревоги одни торопились скрыться в бомбоубежищах, другие лезли на крыши домов, чтобы в случае попадания “зажигалки” обезвредить ее, сбросив в специально установленный на чердаке ящик с песком.
Я мало что понимал, но бомбежки боялся. Помню, как мы бежали с Майей под вой сирены прятаться в убежище около Большого театра. Она держала меня за ручку и спрашивала: “Ты не боишься?” На что я отвечал: “Совсем не боюсь, вот только бородочка трясется…”
Во время третьей бомбежки Москвы, как я уже писал, погиб мой дядя Нуля, Эммануил Мессерер. Это случилось в ночь на 24 июля 1941 года. Проводив с Павелецкого вокзала в эвакуацию в Кинель-Черкассы под Куйбышевом своего семидесятичетырехлетнего отца, жену и сына, он вернулся домой на Садовую-Кудринскую. Когда началась бомбежка, Нуля бросился с товарищами на крышу гасить “зажигалки”. Его последними словами были: “Эту войну нам не пережить”. Так оно и случилось. На дом упала фугасная бомба, превратив его в развалины. От всего дома остались стена и комната, в которой жил Нуля с семьей. Уцелел даже рояль “Бехштейн”, приобретенный в рассрочку. От осколков его закрыла дверь, прилетевшая во время взрыва из коридора.
В силу детского возраста я не мог тогда оценить весь ужас происходящего, да и многому не был свидетелем, поэтому снова обращусь к дневникам дяди Нодика.
Из неопубликованных воспоминаний Александра Михайловича Мессерера:
“Мы с Асафом и рабочими раскапывали завалы. Откопали много трупов. Один запомнился на всю жизнь – у него череп был расколот пополам, как арбуз.