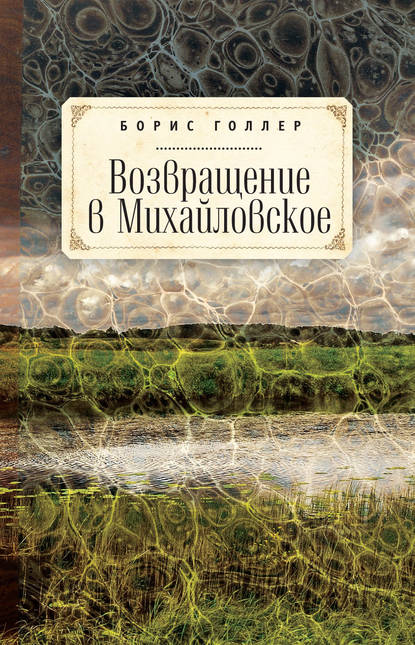По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвращение в Михайловское
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, уездный предводитель! Я запамятовала. В этих ваших представлениях, простите – всегда есть что-то лакейское!..
Он схватил ее за руку и сильно тряхнул.
– Что вы сказали?..
– Отпустите! Вы ж видите – я вяжу!..
– Повторите, что вы сказали?..
– Что я вяжу! Еще повторить?..
– Вы забылись, сударыня! Я – статский советник!..
– Отпустите, г-н статский советник! Не то я кликну людей!..
– Бедный мальчик! – сказал отец несчастным голосом. – Все вышло потому, что он никогда не имел настоящего дома!..
– Вы о ком, собственно, из сыновей?..
– О старшем, естественно! Который попал теперь в пренеприятные ситуации!..
– Ах, это он уже – бедный мальчик?..
– Да-с, сударыня! Да-с!.. Когда он воротился домой из учения – он бежал своего дома! Он вечно торчал где-то… Он не мог даже привести гостей домой! В доме был всегда такой беспорядок! Вы – мать! Когда у Ольги начались месяца – тряпки валялись по всему дому!..
– Вы – не мужчина! Разве мужчине пристало замечать такие вещи?.. Кто виной – что вы никогда не умели спрашивать со слуг!..
– Это я должен был спрашивать?..
– Кстати, вы, по-моему, забыли нынче сказать, чтоб вынесли ваш горшок. А, нет?.. Что-то запах!..
Она повела ноздрями – презрительно и властно. У нее всегда были такие ноздри. Тонкие, нездешние… Тонкий нос с горбинкой… Греция, Рим?.. И очи, запеленутые каким-то туманом – в коем мужчины, все без исключения, готовы видеть неудачу женской судьбы, которой так и тянет прийти на помощь!
– Между прочим, младший, ваш любимец – пойдет тем же путем! Вы не замечаете? Он уже, по-моему, навострил лыжи!..
– Оставьте в покое младшего хотя бы!..
– Но я не могу позволить, чтоб мой старший сын…
– Успокойтесь! Он – не ваш сын!
– Как-так, не мой?! Что вы говорите?..
– Успокойтесь! Этот грех я уже отмолила в своей церкви!..
…лжет, конечно. И сын… так похож на него… никогда никто не сомневался! А впрочем… Разве не бывает? Дед повесил француза-учителя на воротах имения. Из ревности. Все бывает. Чужая душа! Чужая душа – потемки! Нерусская, лживая… С этим туманом на очах… Чужое небо. Чужая женщина. Врет! А может? Все может быть! Бежать! В леса. Удалиться и плакать, плакать. Одиночество! Пойти в баню. И там… дворовую девку. Сперва все… А потом плакать. Рыдать от одиночества у нее в коленях. И чтоб эта девка плакала с тобой. Горшок! Нашла чем попрекнуть! – Он думал о сыне. И что тот опять ввязался в какие-то… не приведи бог! Девку! В бане! на полке-с! Так-с!.. Он незаметно под халатом дотронулся до причинного места. И вышел с гордостию…
К вечеру приехал, наконец, сын, из-за которого весь сыр-бор. Дорожная коляска, промчавшись по еловой аллее, лихо развернулась вкруг клумбы к дому… Встречать высыпали все. Дворовые дружно выносили вещи. Их было немного. Сын был в дорожном сером сюртуке и сам чуть посеревший с дороги. Мать от метила про себя материнским взглядом круги под глазами и несвежую у ворота верхнюю сорочку. Сын поцеловал ей руку, она мелко перекрестила его – раз-другой, поцеловала в лоб и заплакала. Он вновь поцеловал ей руку и стоял рас терянный. Он боялся с детства – когда она плакала. Хотя смутно подозревал всегда, что плачет она не о ком-нибудь – о себе самой. Почему?.. С отцом они трижды расцеловались по-русски – но сухо. Отец сперва протянул руку важным движением – сразу возникла сухость. Сестра Ольга повисла на брате, поджав ко ленки и махая в воздухе маленькими узкими ступнями. Шепча в ухо, что ужа с но-ужасно рада. Она в самом деле любила его. И так продолжала висеть на нем пока papa не встряли, как всегда, что барышне сие – не комильфо… Младший брат был доволен и всем видом строил таинственность. Как все девятнадцатилетние, которые уверены, что им внятно то, что невнятно другим. Они обнялись – и он успел буркнуть загадочное: – Готовься!.. – То есть, думал, что загадочное. Все и так понятно. Старший улыбнулся. Он отдавал себе отчет, когда ехал сюда – он знал свой дом. Нянька поцеловала в плечо – два или три раза и плакала, не переставая. Про нее он точно знал, что плачет об нем. Он поцеловал ее в лоб, а потом в соленую щеку – пахнуло сивухой, – должно, приняла перед встречей, за ней водилось. Дворовые наблюдали всю сцену откровенно и с удовольствием. – Не наблюдали, а зарились, ей-богу! – Можно понять. Какое-то развлечение в их жизни. Дворовые девки бесстыже разглядывали молодого барина, лузгая семечки. С особым вниманием – те, что были девчонками, когда он был в последний раз здесь – а теперь вот вымахали во взрослых девах…
Все заговорили – «Ужин, ужин!» – но он отнекнулся: сказал, что устал, что завтра, все завтра – а пока неплохо б в баню. Мать подумала и поддержала его. Он, видно по всему, в самом деле устал – а тут пойдут разговоры… Она памятовала свою беседу с мужем, от которой еще могут быть последствия – взглянула на мужа невинными глазами и тоже твердо сказала: – Завтра!.. А няня подтвердила, что баня уже истоплена – и в самый раз. Она там, при бане жила… Не всегда, конечно, иногда в доме. Вообще, она была здесь хозяйкой. Ее слушались – и даже старший барин, а он был ндравный!
Это «завтра» словно разогнало встречавших – ну, устал человек, хочет привести себя в порядок. К слову «баня» на Руси так же принято относиться с уважением.
Приезжий прошел к себе – бросил беглый взгляд на отведенную ему комнату: кровать, узкий стол – колченогий, впритирку к окну, узкое окошко. И даже не взглянул в окно. Теперь это надолго! Завтра, послезавтра…Обидно! Он поморщился, перерядился в домашний халат, и в таком виде отправился в «байну» – как говорила няня. Она была здесь же – а где ей быть, и, когда она плеснула первый ковш на камни – и они зашипели, и отрыгнули парком, и море сразу стало уходить куда-то… Я помню море пред грозою… И море отошло, больше не было моря. Море было далеко. Он вернулся домой.
Он мылся, а няня поливала его водой. Сперва из ковша, потом из круглой большой шайки. И он подставлялся весь этой воде – один бок, другой, перед, зад… Няни он не стеснялся – она его вырастила. Да и вообще… не принято было. Вот мать – другое дело, с матерью он бы так не мог! Няня тоже, обливая – разглядывала его стати – без стеснения, да и не без удовольствия. (Много ли она видела в жизни?..) Фигура, несмотря на малый рост – была крепкой, скроенной, что надо. Няне нравилось: бедра у него узкие, что у хорошего коня – не то, что у отца. У того, прости мя господи, бабьи ляжки! (Отца она тоже мыла в бане обычно.)
Потом, когда он сидел уже в простыне, нежился, растертый, отходил от пара и пил чай, какой она же и принесла – она спросила обыденно:
– Хочешь девку нынече какую-нибудь?.. Я ее намою тебе – как вылижу!.. Видел, как они на тебя глазели? Точно диво дивное!..
– Нет, – сказал он, – не сегодня… – Я и вправду устал!..
– Ну, как хочешь, как хочешь! А то – только кликни!..
Час спустя он лежал на кровати в чем мать родила – брюхом кверху – и думал… Все разбрелись кто куда – и дом словно вымер. Заглянул брат – но он при поднялся лениво и сказал: – Нет, завтра! Все завтра!..
– Понял!.. – бросил тот и прикрыл дверь. Он полежал еще… потом достал из дорожного баула трубку – и попытался раскурить. Не вышло. Море было далеко, и трубка не раскуривалась. Он еще полежал, попытался взять какую-то книжку – не лезло в голову. Все не лезло в голову.
Незаметно стемнело. Он пошарил, взял свечку, зажег… Сунул в темный канделябр. Взглянул на свою руку – вся в пыли от прикосновения. «Как всегда, – подумал брезгливо, – как всегда!..» Присел на корточки и стал доставать из-под кровати урыльник. Вытащил до середины – да так и оставил. Успеется! И снова лег. Еще чуть погодя слез опять, накинул халат и немного поблуждал по пустым комнатам. Из спальни родителей доносились голоса – он не стал прислушиваться. Ничего хорошего он не ждал услышать… Завтра, все завтра!.. Вышел в темную прихожую – у другого крыльца, того, что выходило к реке, – и отворил окно. Реки не было видно. В траве шуршали птицы и все еще стрекотали кузнечики. Но было уже сыро… Что будет здесь осенью?.. Он попытался переклониться через подоконник – аж весь вытянулся, – но не увидел реки. Моря тоже не было… Клочок луны гляделся в открытое окно. Он взобрался на подоконник и стал мочиться – вниз, в травы, но задирая струю все выше в небо – странные желания у нас, людей! Струя взвивалась дугой. Ого! Еще молод! – твою мать – еще молод!.. В свете луны струя отблескивала. Ну, все, как будто. Верно, целая лужа. Только б сестра не видела! Нет, спит, наверное!..
Он ошибался. Сестра не спала и думала о нем. Ну, не только о нем, конечно… И вообще – кто думает – лишь о чем-то одном? Радовалась, как никто, что он приехал. И потому, что любила, но и… что греха таить? Дом опять начнет пол ниться молодыми людьми!.. Брат всегда притягивает их к себе… Впрочем, здесь, откуда?.. Двадцать семь – и не замужем – это уже серьезно!
Она выпростала из-под пикейного одеяльца босые ноги – потом на одной ноге высоко задрала рубашку, отороченную снизу кружевом. И стала разглядывать ее – вытянутую… Подняла рубашку выше. Нет, ничего!.. И ступня узкая, и нога длинная, и икра круглая… Почему, почему?.. Ответа не было на этот – как на другие вопросы. Она повернулась на бок, пытаясь задремать…
Брат, меж тем, вернувшись к себе, присел к столу при свечке… Взял карандаш и принялся что-что чирикать на клочке бумаги. Сперва попробовал нарисовать себя в окне – и как он мочится в траву с подоконника. Струя на рисунке изогнулась совсем. Парабола, гипербола?.. Он улыбнулся. (Математика не была его конек.) Гибербол – это имя… древний грек. Ламповщик – был подвергнут остракизму. Во времена… В Греции это называлось черепкованием. Все решали черепки. Против, за… Я – тоже ламповщик и подвергнут остракизму. (Кто-то бросил черепки.) Меня отринули от моря… Вновь взглянул на свой рисунок. Струя получилась – он сам не получался. Он начал зачеркивать свою неудачу – аккуратными такими, почти параллельными штришками, и под ними стал рисовать собственный портрет в профиль. Он научился на юге – сам не знал, как научился. Но иногда выходило в одну линию. Сносно?.. На этот раз лучше – он откинулся и взглянул еще.
И расписался под портретом: А. Пушкин.
II
Наутро за завтраком ели скучно и вяло. Окна были настежь – там накрапывал дождь. Сплошь угольный карандаш, никаких красок!.. Александр по неловкости разбил яйцо всмятку, поданное в старинной рюмке-подставочке (остатки сервиза старого арапа) – оно вылилось на тарелку. Или скорлупа была тонкой?.. И теперь тщательно вымакивал ржаным хлебом на вилке ярко-желтую жижу. Картинка в окне сулила тоску и отъединение. Неужто – так теперь навсегда? Или надолго?.. Он ждал удара, ждал – что на него нападут (первый, конечно – отец) и хотел, чтоб скорей. Хотелось выйти из себя – выкричаться, выплеснуться. Когда не можешь ничего объяснить, и даже себе…
Но никто не нападал. Мать была в мигрени – с широкой повязкой на лбу, схваченной сзади узлом – по-пиратски, с хвостиками – сверху капор, разумеется. Из-под сего двуслойного строения глядели на мир черные, близорукие, близко посаженные глаза – чуть с косинкой, и верно, от близорукости подернутые каким-то туманом, что прежде так действовало на мужчин. За этот странный взгляд – и на вас, и, вместе, куда-то помимо, – возможно, и прозвали ее «прекрасной креолкой»… Пусть это – только в прошлом, у женщины даже в возрасте – прошлое перепутано с настоящим. Она не зря считала, что беды ее детей могут идти исключительно от амурных дел и неудач и уверенно подозревала в том старшего сына. И если б трое ее умерших в детстве сыновей дожили до взрослого состояния… Она одна за сто лом знала, что муж сегодня не пойдет на скандал – ему хватило вчерашнего… Берег в Люстдорфе странный. Сухой песок подходит почти к самой кромке – будто волны совсем не омывают его… Нагая степь. И, он, Александр идет по песку. (Вымакивает яйцо.) – Что вы делаете здесь? – Я жду экипажа из Одессы!.. Отец все еще был в бешенстве, что старший сын, подававший такие надежды, ввязался во второй раз – в какую-то распрю с властями. Но пребывал в рассуждении, что вчера в сцене с женой хватил через край – и теперь надо бы продемонстрировать смиренность. Жену он любил. Он никогда не забывал, что она слыла в свое время одной из прекраснейших женщин Москвы. Может, и Петербурга?.. Он был тщеславен в этом смысле – впрочем, как во всех остальных. Он уныло ковырял вилкой явно не свеже зажаренного для него (как полагалось бы по чину – хозяину дома) – но лишь подогретого цыпленка и время от времени энергически хватался за зубочистку. Цыпленок был стар, и сам он нынче чувствовал себя старым. Сестрица Оленька сидела, чуть сжавшись, – она боялась скандалов, и ей казалось, ссора вот-вот вспыхнет. Брат Лев тоже ждал и предвкушал… Счастливый возраст, когда все внове – и всякая новая страница завлекательна – даже если на ней – только череп и кости.
– А почему мы молчим? – спросила Оленька как бы наивно. Ее деланная наивность иногда спасала вечно разбредавшуюся, разбегавшуюся семью…
– Молчится, – сказала мать, прячась в свою мигрень. Отец помрачнел.
– А правда, там, в Одессе – кругом сады? – не унималась Оленька.
– Начиталась Туманского? – улыбнулся старший брат.
Моя жизнь порой смахивала на эпиграмму… на самом деле она была, скорей, элегией…
– Почему – Туманского? Не помню… Читали что-то с барышнями в Тригорском.
– Туманский! – подтвердил брат. – Есть люди, которые способны видеть жизнь лишь сквозь собственные миражи! Туманности… Да там кругом – нагая степь!
Он схватил ее за руку и сильно тряхнул.
– Что вы сказали?..
– Отпустите! Вы ж видите – я вяжу!..
– Повторите, что вы сказали?..
– Что я вяжу! Еще повторить?..
– Вы забылись, сударыня! Я – статский советник!..
– Отпустите, г-н статский советник! Не то я кликну людей!..
– Бедный мальчик! – сказал отец несчастным голосом. – Все вышло потому, что он никогда не имел настоящего дома!..
– Вы о ком, собственно, из сыновей?..
– О старшем, естественно! Который попал теперь в пренеприятные ситуации!..
– Ах, это он уже – бедный мальчик?..
– Да-с, сударыня! Да-с!.. Когда он воротился домой из учения – он бежал своего дома! Он вечно торчал где-то… Он не мог даже привести гостей домой! В доме был всегда такой беспорядок! Вы – мать! Когда у Ольги начались месяца – тряпки валялись по всему дому!..
– Вы – не мужчина! Разве мужчине пристало замечать такие вещи?.. Кто виной – что вы никогда не умели спрашивать со слуг!..
– Это я должен был спрашивать?..
– Кстати, вы, по-моему, забыли нынче сказать, чтоб вынесли ваш горшок. А, нет?.. Что-то запах!..
Она повела ноздрями – презрительно и властно. У нее всегда были такие ноздри. Тонкие, нездешние… Тонкий нос с горбинкой… Греция, Рим?.. И очи, запеленутые каким-то туманом – в коем мужчины, все без исключения, готовы видеть неудачу женской судьбы, которой так и тянет прийти на помощь!
– Между прочим, младший, ваш любимец – пойдет тем же путем! Вы не замечаете? Он уже, по-моему, навострил лыжи!..
– Оставьте в покое младшего хотя бы!..
– Но я не могу позволить, чтоб мой старший сын…
– Успокойтесь! Он – не ваш сын!
– Как-так, не мой?! Что вы говорите?..
– Успокойтесь! Этот грех я уже отмолила в своей церкви!..
…лжет, конечно. И сын… так похож на него… никогда никто не сомневался! А впрочем… Разве не бывает? Дед повесил француза-учителя на воротах имения. Из ревности. Все бывает. Чужая душа! Чужая душа – потемки! Нерусская, лживая… С этим туманом на очах… Чужое небо. Чужая женщина. Врет! А может? Все может быть! Бежать! В леса. Удалиться и плакать, плакать. Одиночество! Пойти в баню. И там… дворовую девку. Сперва все… А потом плакать. Рыдать от одиночества у нее в коленях. И чтоб эта девка плакала с тобой. Горшок! Нашла чем попрекнуть! – Он думал о сыне. И что тот опять ввязался в какие-то… не приведи бог! Девку! В бане! на полке-с! Так-с!.. Он незаметно под халатом дотронулся до причинного места. И вышел с гордостию…
К вечеру приехал, наконец, сын, из-за которого весь сыр-бор. Дорожная коляска, промчавшись по еловой аллее, лихо развернулась вкруг клумбы к дому… Встречать высыпали все. Дворовые дружно выносили вещи. Их было немного. Сын был в дорожном сером сюртуке и сам чуть посеревший с дороги. Мать от метила про себя материнским взглядом круги под глазами и несвежую у ворота верхнюю сорочку. Сын поцеловал ей руку, она мелко перекрестила его – раз-другой, поцеловала в лоб и заплакала. Он вновь поцеловал ей руку и стоял рас терянный. Он боялся с детства – когда она плакала. Хотя смутно подозревал всегда, что плачет она не о ком-нибудь – о себе самой. Почему?.. С отцом они трижды расцеловались по-русски – но сухо. Отец сперва протянул руку важным движением – сразу возникла сухость. Сестра Ольга повисла на брате, поджав ко ленки и махая в воздухе маленькими узкими ступнями. Шепча в ухо, что ужа с но-ужасно рада. Она в самом деле любила его. И так продолжала висеть на нем пока papa не встряли, как всегда, что барышне сие – не комильфо… Младший брат был доволен и всем видом строил таинственность. Как все девятнадцатилетние, которые уверены, что им внятно то, что невнятно другим. Они обнялись – и он успел буркнуть загадочное: – Готовься!.. – То есть, думал, что загадочное. Все и так понятно. Старший улыбнулся. Он отдавал себе отчет, когда ехал сюда – он знал свой дом. Нянька поцеловала в плечо – два или три раза и плакала, не переставая. Про нее он точно знал, что плачет об нем. Он поцеловал ее в лоб, а потом в соленую щеку – пахнуло сивухой, – должно, приняла перед встречей, за ней водилось. Дворовые наблюдали всю сцену откровенно и с удовольствием. – Не наблюдали, а зарились, ей-богу! – Можно понять. Какое-то развлечение в их жизни. Дворовые девки бесстыже разглядывали молодого барина, лузгая семечки. С особым вниманием – те, что были девчонками, когда он был в последний раз здесь – а теперь вот вымахали во взрослых девах…
Все заговорили – «Ужин, ужин!» – но он отнекнулся: сказал, что устал, что завтра, все завтра – а пока неплохо б в баню. Мать подумала и поддержала его. Он, видно по всему, в самом деле устал – а тут пойдут разговоры… Она памятовала свою беседу с мужем, от которой еще могут быть последствия – взглянула на мужа невинными глазами и тоже твердо сказала: – Завтра!.. А няня подтвердила, что баня уже истоплена – и в самый раз. Она там, при бане жила… Не всегда, конечно, иногда в доме. Вообще, она была здесь хозяйкой. Ее слушались – и даже старший барин, а он был ндравный!
Это «завтра» словно разогнало встречавших – ну, устал человек, хочет привести себя в порядок. К слову «баня» на Руси так же принято относиться с уважением.
Приезжий прошел к себе – бросил беглый взгляд на отведенную ему комнату: кровать, узкий стол – колченогий, впритирку к окну, узкое окошко. И даже не взглянул в окно. Теперь это надолго! Завтра, послезавтра…Обидно! Он поморщился, перерядился в домашний халат, и в таком виде отправился в «байну» – как говорила няня. Она была здесь же – а где ей быть, и, когда она плеснула первый ковш на камни – и они зашипели, и отрыгнули парком, и море сразу стало уходить куда-то… Я помню море пред грозою… И море отошло, больше не было моря. Море было далеко. Он вернулся домой.
Он мылся, а няня поливала его водой. Сперва из ковша, потом из круглой большой шайки. И он подставлялся весь этой воде – один бок, другой, перед, зад… Няни он не стеснялся – она его вырастила. Да и вообще… не принято было. Вот мать – другое дело, с матерью он бы так не мог! Няня тоже, обливая – разглядывала его стати – без стеснения, да и не без удовольствия. (Много ли она видела в жизни?..) Фигура, несмотря на малый рост – была крепкой, скроенной, что надо. Няне нравилось: бедра у него узкие, что у хорошего коня – не то, что у отца. У того, прости мя господи, бабьи ляжки! (Отца она тоже мыла в бане обычно.)
Потом, когда он сидел уже в простыне, нежился, растертый, отходил от пара и пил чай, какой она же и принесла – она спросила обыденно:
– Хочешь девку нынече какую-нибудь?.. Я ее намою тебе – как вылижу!.. Видел, как они на тебя глазели? Точно диво дивное!..
– Нет, – сказал он, – не сегодня… – Я и вправду устал!..
– Ну, как хочешь, как хочешь! А то – только кликни!..
Час спустя он лежал на кровати в чем мать родила – брюхом кверху – и думал… Все разбрелись кто куда – и дом словно вымер. Заглянул брат – но он при поднялся лениво и сказал: – Нет, завтра! Все завтра!..
– Понял!.. – бросил тот и прикрыл дверь. Он полежал еще… потом достал из дорожного баула трубку – и попытался раскурить. Не вышло. Море было далеко, и трубка не раскуривалась. Он еще полежал, попытался взять какую-то книжку – не лезло в голову. Все не лезло в голову.
Незаметно стемнело. Он пошарил, взял свечку, зажег… Сунул в темный канделябр. Взглянул на свою руку – вся в пыли от прикосновения. «Как всегда, – подумал брезгливо, – как всегда!..» Присел на корточки и стал доставать из-под кровати урыльник. Вытащил до середины – да так и оставил. Успеется! И снова лег. Еще чуть погодя слез опять, накинул халат и немного поблуждал по пустым комнатам. Из спальни родителей доносились голоса – он не стал прислушиваться. Ничего хорошего он не ждал услышать… Завтра, все завтра!.. Вышел в темную прихожую – у другого крыльца, того, что выходило к реке, – и отворил окно. Реки не было видно. В траве шуршали птицы и все еще стрекотали кузнечики. Но было уже сыро… Что будет здесь осенью?.. Он попытался переклониться через подоконник – аж весь вытянулся, – но не увидел реки. Моря тоже не было… Клочок луны гляделся в открытое окно. Он взобрался на подоконник и стал мочиться – вниз, в травы, но задирая струю все выше в небо – странные желания у нас, людей! Струя взвивалась дугой. Ого! Еще молод! – твою мать – еще молод!.. В свете луны струя отблескивала. Ну, все, как будто. Верно, целая лужа. Только б сестра не видела! Нет, спит, наверное!..
Он ошибался. Сестра не спала и думала о нем. Ну, не только о нем, конечно… И вообще – кто думает – лишь о чем-то одном? Радовалась, как никто, что он приехал. И потому, что любила, но и… что греха таить? Дом опять начнет пол ниться молодыми людьми!.. Брат всегда притягивает их к себе… Впрочем, здесь, откуда?.. Двадцать семь – и не замужем – это уже серьезно!
Она выпростала из-под пикейного одеяльца босые ноги – потом на одной ноге высоко задрала рубашку, отороченную снизу кружевом. И стала разглядывать ее – вытянутую… Подняла рубашку выше. Нет, ничего!.. И ступня узкая, и нога длинная, и икра круглая… Почему, почему?.. Ответа не было на этот – как на другие вопросы. Она повернулась на бок, пытаясь задремать…
Брат, меж тем, вернувшись к себе, присел к столу при свечке… Взял карандаш и принялся что-что чирикать на клочке бумаги. Сперва попробовал нарисовать себя в окне – и как он мочится в траву с подоконника. Струя на рисунке изогнулась совсем. Парабола, гипербола?.. Он улыбнулся. (Математика не была его конек.) Гибербол – это имя… древний грек. Ламповщик – был подвергнут остракизму. Во времена… В Греции это называлось черепкованием. Все решали черепки. Против, за… Я – тоже ламповщик и подвергнут остракизму. (Кто-то бросил черепки.) Меня отринули от моря… Вновь взглянул на свой рисунок. Струя получилась – он сам не получался. Он начал зачеркивать свою неудачу – аккуратными такими, почти параллельными штришками, и под ними стал рисовать собственный портрет в профиль. Он научился на юге – сам не знал, как научился. Но иногда выходило в одну линию. Сносно?.. На этот раз лучше – он откинулся и взглянул еще.
И расписался под портретом: А. Пушкин.
II
Наутро за завтраком ели скучно и вяло. Окна были настежь – там накрапывал дождь. Сплошь угольный карандаш, никаких красок!.. Александр по неловкости разбил яйцо всмятку, поданное в старинной рюмке-подставочке (остатки сервиза старого арапа) – оно вылилось на тарелку. Или скорлупа была тонкой?.. И теперь тщательно вымакивал ржаным хлебом на вилке ярко-желтую жижу. Картинка в окне сулила тоску и отъединение. Неужто – так теперь навсегда? Или надолго?.. Он ждал удара, ждал – что на него нападут (первый, конечно – отец) и хотел, чтоб скорей. Хотелось выйти из себя – выкричаться, выплеснуться. Когда не можешь ничего объяснить, и даже себе…
Но никто не нападал. Мать была в мигрени – с широкой повязкой на лбу, схваченной сзади узлом – по-пиратски, с хвостиками – сверху капор, разумеется. Из-под сего двуслойного строения глядели на мир черные, близорукие, близко посаженные глаза – чуть с косинкой, и верно, от близорукости подернутые каким-то туманом, что прежде так действовало на мужчин. За этот странный взгляд – и на вас, и, вместе, куда-то помимо, – возможно, и прозвали ее «прекрасной креолкой»… Пусть это – только в прошлом, у женщины даже в возрасте – прошлое перепутано с настоящим. Она не зря считала, что беды ее детей могут идти исключительно от амурных дел и неудач и уверенно подозревала в том старшего сына. И если б трое ее умерших в детстве сыновей дожили до взрослого состояния… Она одна за сто лом знала, что муж сегодня не пойдет на скандал – ему хватило вчерашнего… Берег в Люстдорфе странный. Сухой песок подходит почти к самой кромке – будто волны совсем не омывают его… Нагая степь. И, он, Александр идет по песку. (Вымакивает яйцо.) – Что вы делаете здесь? – Я жду экипажа из Одессы!.. Отец все еще был в бешенстве, что старший сын, подававший такие надежды, ввязался во второй раз – в какую-то распрю с властями. Но пребывал в рассуждении, что вчера в сцене с женой хватил через край – и теперь надо бы продемонстрировать смиренность. Жену он любил. Он никогда не забывал, что она слыла в свое время одной из прекраснейших женщин Москвы. Может, и Петербурга?.. Он был тщеславен в этом смысле – впрочем, как во всех остальных. Он уныло ковырял вилкой явно не свеже зажаренного для него (как полагалось бы по чину – хозяину дома) – но лишь подогретого цыпленка и время от времени энергически хватался за зубочистку. Цыпленок был стар, и сам он нынче чувствовал себя старым. Сестрица Оленька сидела, чуть сжавшись, – она боялась скандалов, и ей казалось, ссора вот-вот вспыхнет. Брат Лев тоже ждал и предвкушал… Счастливый возраст, когда все внове – и всякая новая страница завлекательна – даже если на ней – только череп и кости.
– А почему мы молчим? – спросила Оленька как бы наивно. Ее деланная наивность иногда спасала вечно разбредавшуюся, разбегавшуюся семью…
– Молчится, – сказала мать, прячась в свою мигрень. Отец помрачнел.
– А правда, там, в Одессе – кругом сады? – не унималась Оленька.
– Начиталась Туманского? – улыбнулся старший брат.
Моя жизнь порой смахивала на эпиграмму… на самом деле она была, скорей, элегией…
– Почему – Туманского? Не помню… Читали что-то с барышнями в Тригорском.
– Туманский! – подтвердил брат. – Есть люди, которые способны видеть жизнь лишь сквозь собственные миражи! Туманности… Да там кругом – нагая степь!