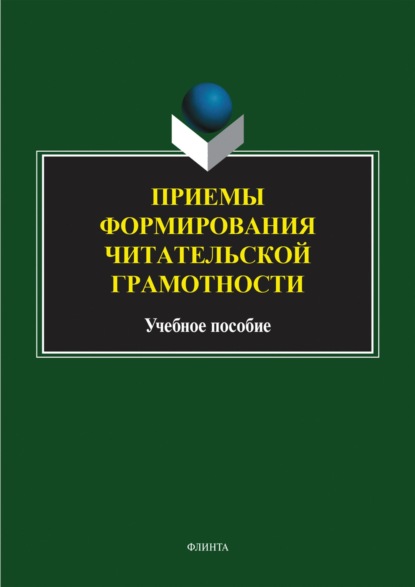По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь пройти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это был Виктор Гурский – русский немец из-под Оренбуржья, который в дальнейшем стал моим другом. Для того чтобы нам подружиться, были свои причины.
С первых шагов нашего знакомства он огорошил меня формулой, напоминающей постулаты философии стоиков: «Надейся на худшее, а будет лучше – тем лучше.» Мы быстро сошлись на любви к чтению, стали обмениваться книгами – и как раз с его стороны были мне сюрпризы. Вот без всякого повода и без каких-либо поползновений с моей стороны – он взял да и подарил мне том Бунина. Это имя я узнавал впервые.
Я принялся читать – и словно погрузился… в своё прошлое.
Бунинская проза стала для меня не просто открытием, но ещё и волшебным средством мгновенного – стоило лишь открыть книгу – возвращения на родную землю, возвращения к тому, что я сам видел или испытал. Его феноменально короткие – их даже новеллами не назовёшь – зарисовки, такие как «Журавли», «Летний день» – приводили в изумление и обращали память к тому, с чем я, его земляк, человек третьего от Бунина поколения, был так или иначе знаком – пусть с годами даже в несколько изменённом виде. А уж что касается языка, народной речи…
В рассказе «Божье древо» речь своего героя Бунин охарактеризовал так: «Говор старинный, косолапый, крупный.» Вышло так, что для него, Бунина, он уже был «старинный», но оказалось, что говор тот был и мне знако?м! Хотя детство моё совпало с войной, эту речь, можно сказать, я слышал с пелёнок (встречались, например, исчезновение согласной в конце глагола: идё вместо идёт; замена гласной е на а: табе, сабе, таперь; отсутствие среднего рода, который переменяется на женский: одна баловство и т. д.). И теперь, читая рассказ, всё это я узнавал в говоре Якова.
– И чего только не бывает на свете… – как-то, смеясь, сказал Гурский. – Кто бы мог подумать, что повезёт свести знакомство с земляком Бунина!
Этот мой собеседник обладал превосходным чувством юмора, и часто его язвительные реплики попада?ли в самую точку. Когда я решился показать ему мои стихи, он изругал их и объявил, что они сильно «попахивают Есениным». А однажды он и вовсе сразил меня, подсунув для ознакомления откуда-то вырванные три странички, исписанные его ровным, отчётливым почерком, где каждая буковка стояла отдельно, словно напечатанная. То, что в трёх страничках содержалось, – крепко брало за душу: скупыми, короткими фразами была очерчена неприкаянность двух одиноких существ, оказавшихся в степном посёлке Предуралья – старика-ссыльного из Прибалтики и невесть откуда взявшегося верблюда.
– Из этого вышел бы отличный рассказ, – сказал я.
– Ага, – усмехнувшись, ответил он. – Вот Бунин написал бы, это точно.
– Да ведь начало уже тобой написано, почему же не продолжить?
– Ну уж нет. Мне это ни к чему, – подвёл он черту. – Хочешь – дерзай сам, переходи на прозу. Дарю.
Что случилось с этими, кочевавшими потом в моём чемодане, страничками через много лет – о том разговор впереди. А пока мы оба успешно грызли науку и эти временные переключения в другую – гуманитарную – область никоим образом не служили помехой в учёбе. Напротив – они освежали мозги для других занятий.
Нечаянная встреча с «Пушкиным»
Казалось бы, молодому человеку, сразу после десятилетки поступившему в вуз, окончившего его и получившему прекрасную профессию, положено погрузиться в неё с головой – и, таким образом, обрести своё место в жизни.
Для меня сей идеальный сценарий развивался с приключениями. И тут дело не столько в том, что влияли на это непростые жизненные перипетии, в которых всегда есть своя история с географией, – это бывает со многими. В моём случае дело уже начало осложняться своего рода болезнью: я продолжал писать стихи.
В итоге довольно непростых жизненных происшествий оказавшись в славном городе на Неве, обретя должность инженера-конструктора в проектном институте судостроительного профиля и в житейском смысле не имея ничего кроме съёмного жилого помещения, молодой специалист чувствовал себя не в своей тарелке и трудился без особого энтузиазма – скорей по обязанности.
Однако очарование жизни состоит в том, что она непредсказуема и время от времени подбрасывает сюрпризы, свойство которых ничем другим нельзя объяснить – только везением: при первом же нечаянном знакомстве с молодым соседом по коммуналке выясняется, что он тоже пишет стихи да ещё с восторгом приглашает в поэтическую студию при доме культуры!
Где и как это было – мной достаточно подробно описано в моём автобиографическом романе. Здесь сто?ит лишь упомянуть, что общая тетрадь моя, заведенная ещё в студенчестве изредка пополнялась стихами, хотя самому этому процессу я по-прежнему не придавал значения.
Ах, какое это было время – замечательные шестидесятые, принёсшие надежды на что-то новое, на перемены к лучшему!
Вообрази, читатель, молодого инженера в возрасте двадцати трёх лет… Конструкторская работа в проектном отделе института в небольшой комнате – день за днём, которые складываются в недели, недели – в месяцы… ежедневное общение с чертежами, графиками, цифрами порой заедает, действует на нервы… а тут вдруг неожиданная командировка в Мурманск летом 1962 года!
Работа института по решению проблемы непотопляемости морских судов требовала изучения некоторых аспектов из практики плавания нашего рыболовного флота в Атлантике. Я был включён в состав небольшой группы, отправлявшейся на Север – туда, где мне бывать не приходилось и о чём я имел смутное представление.
Новые впечатления ошеломили. И Карелия, даже всего лишь увиденная в окошко поезда, и Мурманск с неуходящим за горизонт солнцем. Эта командировка подарила ещё и очарование городом моряков, обрушившим на «кабинетного сидельца» простую истину: вот он, есть, существует другой мир жизни пусть и непростой порой, но настоящей – суровой и прекрасной.
Всё это не могло не повлиять на умонастроение сотрудника института, возвратившегося «на круги своя». Я не мог успокоиться. Эхо мурманских дней настойчиво отзывалось в душе. И однажды в ней словно прорвало запруду – и две с лишним недели, каждый вечер засиживаясь за столом до поздней ночи, я исписывал страницы новой тетради. И откуда что взялось? Ведь ни сном ни духом раньше я не помышлял писать о чём бы то ни было.
Вот так неожиданно, забыв о стихах, я погрузился в прозаическое повествование, в котором Город Моряков не отпускал меня, владел мной, вмешивался в моё лихорадочное писание.
Сидя в своей съёмной каморке (в этой квартире она была крошечной, расположенной у всегда закрытой двери на чёрную лестницу, – вероятнее всего в старые времена она была жилищем какой-нибудь прислуги), я воображением переносился на Север, находил себя за работой в рыбном порту и слышал орущий на всю гавань висящий на столбе динамик:
– Чернышевский! Земснаряд Чернышевский! Дайте возможность Пушкину подойти к причалу! Земснаряд Чернышевский! Чернышевский! Дайте возможность Пушкину подойти к причалу!
Именно так происходило регулирование передвижений плавсредств в тесном пространстве бухты – и я не смог побороть искушения и не повторить команду вездесущего громогласного вещателя в своём повествовании. Не мог никак я забыть тот громовой клич и саму атмосферу, в которой существовали «Пушкин» в виде пассажирского теплохода или, например, в гостинице моряков, в которой я жил, вид бородатого молодого рыбака с книгой в руках (это был роман «Зависть» Олеши).
Каков был ближайший результат моих творческих усилий – о том разговор впереди. А теперь стоит сказать о том, какой неожиданный отзвук мурманской эпопеи обнаружился позже.
Но всё по порядку.
Неукротимая отвага молодости делала своё дело: машинописную копию своей повести я отослал бандеролью… в «Новый мир». Как я узнал потом, поступавшую в журнал прозу курировал его сотрудник Георгий Владимов. Что и говорить, опус мой был несовершенен – и какой-либо реакции со стороны редакции не последовало.
Но какой сюрприз ожидал меня через какое-то время!
Прощло, наверно, года два – и в «Новом мире» был опубликован роман Владимова «Три минуты молчания». Читал я его взахлёб и с ощущением чего-то очень мне знакомого. В нём во всей красе восставал он, город моряков – Мурманск. И среди прочего автор – точно так же, как и я когда-то – сделал акцент на такую подробность: со знакомыми призывами вовсю орал над бухтой динамик:
– Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал!
Тут, грешным делом, я подумал, что – как мне когда-то, засидевшемуся конструктору, – литсотруднику «Нового мира» остобрыдло сидение в редакции. А тут ему, видимо, довелось познакомиться с моим очарованием заполярным городом и романтическими восторгами Севером и рыбаками. И он загорелся феноменальной идеей: выхлопотал отпуск, рванул в Мурманск, чтобы простым матросом на рыболовном траулере отправиться в Атлантику добывать селёдку (потом я узнал, что с отпуском и плаванием именно всё так и было). И отправился он инкогнито – с ясной целью: обрести материал для романа.
Какое же чувство я испытал от этой догадки?
Ну да, что-то вроде белой зависти к тому, как здо?рово у него это получилось от возможной моей «подсказки»! Одно то уже было замечательно, что написанное мной как-то заинтересовало опытного журналиста и побудило его отважиться на далеко не простую вещь: бросить своё дело и на долгое время с потрохами погрузиться в суровую жизнь рыбаков. Итог всего этого получился феноменальный: явился новый литературный герой, этот его Сеня Шалай – своеобразный тип, очень живой и вполне узнаваемый. И если уж и вправду тут какую-то – пусть ничтожную и, что называется, шапочную – роль сыграла моя рукопись, теперь я мог только гордиться тем, что нечаянно помог Владимову родить шедевр. «Три минуты молчания» сделались настольной книгой каждого моряка.
Приключения неофита
Но вернёмся к моему первому прозаическому опыту – к самому началу, к тем первым событиям, последовавшим за завершением моей повести.
Ещё не успел я остыть от вечерних сидений за столом в моей каморке, как вдруг свалилась на меня неожиданная удача, которой помог случай совершенно невероятный – в чём сказалось опятьтаки преимущество обитания в коммунальной квартире: сердобольная соседка, пожилая женщина, прознавшая о грехе сочинительства молодого съёмщика жилья, подсказала, куда ему следует направить свои стопы. И это завершилось таким вот образом…
В угловом доме – в виду Адмиралтейства и Дворцовой площади – то есть в самом начале Невского проспекта, в комнате с большим, покрытым зелёным сукном, столом я читал свою повесть на предмет вступления в литобъединение при журнале «Нева». Слушала меня добрая дюжина начинающих прозаиков – разношёрстная публика: люди разных возрастов, профессий, разного жизненного опыта (похоже, я оказался среди них самым молодым). Естественно, от всего этого я сильно волновался и, когда закончил и началось обсуждение, не мог в точности уяснить себе, чего было больше: похвалы или критики, – но приняли меня в свои ряды единодушно. И уже в самый этот первый – знаменательный для меня – день явились и первые странности.
В перерыве, в ходе приятных для новичка поздравлений, – этаким шустрым бесом – подкатывается ко мне разбитной малый и по-свойски выпаливает: «Ну ты даёшь! Насобачился! Под Пруста лепишь?» Я растерялся – уж не розыгрыш ли? Из тех, что бытуют, быть может, в этой новой для меня среде… И стыдно стало: книг через мои руки прошло достаточно, о самом Прусте читал лишь какую-то статью, а из прозы его не читал ни строчки. Откуда же взяться в моём тексте Прусту? Что за мистика?
Бойкий эрудит, значительно поблёскивая взором, ждал ответа, и я, поборов замешательство, честно признался, что Пруста не читал. Настырный вопрошатель изумился – он мне не поверил! – и панибратски хлопнул меня по плечу: «Ну, старичок, – тогда ты просто гений!» И отошёл с победоносным видом – весьма довольный, что поставил меня на место.
От этого удивительного происшествия как-то нехорошо сделалось у меня внутри, но это сгладилось тем, что мне в самом деле выпала удача и я стал одним из тех, кто ступил на путь словотворчества под крылом известного на всю страну журнала. Отныне у новичка, таким дурацким способом произведенного в «гении», началась двойная жизнь: служба – где он ни словом не заикался о происшедшем – была отдельно и ежевечерние сидения за столом над листом бумаги и посещения регулярных собраний вокруг зелёного стола в редакции «Невы» – тоже отдельно. И скоро неприятное (обидно же, когда тебе не верят) впечатление от того эпизода забылось. Тем более что едва ли так уж плохо, если в твоих писаниях обнаружилось – без всякого твоего участия – нечто «прустовское».
В литобъединении собрались люди толковые, понимающие в ремесле литератора. Заседания, как правило проходили по одной и той же схеме: кто-нибудь из участников, дождавшись очереди, читал свою новую вещь – затем следовал коллективный разбор, на котором, бывало, автору крепко доставалось на орехи.
Руководил семинаром известный поэт Всеволод Рождественский. В наши дискуссии он не вмешивался, лишь изредка делая весьма существенные замечания. Для всех нас он был живым, сохранившимся осколком старой культуры – ведь он общался с Горьким, Блоком, Есениным… И, конечно же, всем хотелось услышать от него о тех легендарных временах и событиях, но, ко всеобщему сожалению «литовцев», руководитель наш не позволял себе пускаться в воспоминания об ушедших днях и деятелях искусства, которых на своём пути он повидал достаточное количество. Впрочем, вероятно, рассказы его об этом были не для всех ушей подряд. Мы прощали старику его замкнутость: вполне возможно, что жизнь приучила его к молчанию – и были благодарны ему уже за одно то, что в наших обсуждениях, спорах и разговорах сочетание слов: социалистический реализм – не произносилось, будто его никогда и не было…
Наши заседания в ЛИТО, как правило, были интересны, и я старался их не пропускать. Разумеется, литературные вкусы и пристрастия у всех участников не могли быть одинаковыми, но в практической работе со словом мы были скорее единомышленниками. И я был уверен, что здесь – в самом центре славного «окна в Европу» – общие интресы объединяют людей искренних. Мне казалось: каждый из присутствующих понимает, что мы не просто занимаемся «складыванием» из слов определённых «картин жизни», но пытаемся разгадать – не только у нас, но и по всей земле, – почему и зачем живёт человек и всякая другая тварь, почему и как растёт дерево или трава… что персонажи, появляющиеся на страницах наших творений, не могут быть полностью выдуманы, подобно сказочным героям, но, равным образом, не должны быть списаны с натуры один к одному.
Конечно, изложенное выше связно сформулировал я гораздо позже, но тогда – будучи неофитом – я это, что называется, чувствовал пу?пом.
При всём том заметно было, что коллеги мои избегают тем, которые могли бы затронуть политику или идеологию, но, с другой стороны, ложь в их писаниях отсутствует, а техникой они вполне владеют. Правда, писания многих из них, пожалуй, были как-то холодноваты, лишены того чувства, которое в старину называли страстью.
Время шло. Минуло, наверно, около года, как я посещал это замечательное сборище – и тут улыбнулась мне новая удача. В ходе шефства отдела прозы журнала над начинающими писателями редколлегией было просмотрено два с лишком десятка наших рассказов и отобрано из них для публикации четыре – и среди этих четырёх оказался и мой рассказ о молодой паре горожан, побывавших на Валааме (это был плод сильного переживания от посещения острова).
Но какой сюрприз уготовила мне коварная фортуна!
С первых шагов нашего знакомства он огорошил меня формулой, напоминающей постулаты философии стоиков: «Надейся на худшее, а будет лучше – тем лучше.» Мы быстро сошлись на любви к чтению, стали обмениваться книгами – и как раз с его стороны были мне сюрпризы. Вот без всякого повода и без каких-либо поползновений с моей стороны – он взял да и подарил мне том Бунина. Это имя я узнавал впервые.
Я принялся читать – и словно погрузился… в своё прошлое.
Бунинская проза стала для меня не просто открытием, но ещё и волшебным средством мгновенного – стоило лишь открыть книгу – возвращения на родную землю, возвращения к тому, что я сам видел или испытал. Его феноменально короткие – их даже новеллами не назовёшь – зарисовки, такие как «Журавли», «Летний день» – приводили в изумление и обращали память к тому, с чем я, его земляк, человек третьего от Бунина поколения, был так или иначе знаком – пусть с годами даже в несколько изменённом виде. А уж что касается языка, народной речи…
В рассказе «Божье древо» речь своего героя Бунин охарактеризовал так: «Говор старинный, косолапый, крупный.» Вышло так, что для него, Бунина, он уже был «старинный», но оказалось, что говор тот был и мне знако?м! Хотя детство моё совпало с войной, эту речь, можно сказать, я слышал с пелёнок (встречались, например, исчезновение согласной в конце глагола: идё вместо идёт; замена гласной е на а: табе, сабе, таперь; отсутствие среднего рода, который переменяется на женский: одна баловство и т. д.). И теперь, читая рассказ, всё это я узнавал в говоре Якова.
– И чего только не бывает на свете… – как-то, смеясь, сказал Гурский. – Кто бы мог подумать, что повезёт свести знакомство с земляком Бунина!
Этот мой собеседник обладал превосходным чувством юмора, и часто его язвительные реплики попада?ли в самую точку. Когда я решился показать ему мои стихи, он изругал их и объявил, что они сильно «попахивают Есениным». А однажды он и вовсе сразил меня, подсунув для ознакомления откуда-то вырванные три странички, исписанные его ровным, отчётливым почерком, где каждая буковка стояла отдельно, словно напечатанная. То, что в трёх страничках содержалось, – крепко брало за душу: скупыми, короткими фразами была очерчена неприкаянность двух одиноких существ, оказавшихся в степном посёлке Предуралья – старика-ссыльного из Прибалтики и невесть откуда взявшегося верблюда.
– Из этого вышел бы отличный рассказ, – сказал я.
– Ага, – усмехнувшись, ответил он. – Вот Бунин написал бы, это точно.
– Да ведь начало уже тобой написано, почему же не продолжить?
– Ну уж нет. Мне это ни к чему, – подвёл он черту. – Хочешь – дерзай сам, переходи на прозу. Дарю.
Что случилось с этими, кочевавшими потом в моём чемодане, страничками через много лет – о том разговор впереди. А пока мы оба успешно грызли науку и эти временные переключения в другую – гуманитарную – область никоим образом не служили помехой в учёбе. Напротив – они освежали мозги для других занятий.
Нечаянная встреча с «Пушкиным»
Казалось бы, молодому человеку, сразу после десятилетки поступившему в вуз, окончившего его и получившему прекрасную профессию, положено погрузиться в неё с головой – и, таким образом, обрести своё место в жизни.
Для меня сей идеальный сценарий развивался с приключениями. И тут дело не столько в том, что влияли на это непростые жизненные перипетии, в которых всегда есть своя история с географией, – это бывает со многими. В моём случае дело уже начало осложняться своего рода болезнью: я продолжал писать стихи.
В итоге довольно непростых жизненных происшествий оказавшись в славном городе на Неве, обретя должность инженера-конструктора в проектном институте судостроительного профиля и в житейском смысле не имея ничего кроме съёмного жилого помещения, молодой специалист чувствовал себя не в своей тарелке и трудился без особого энтузиазма – скорей по обязанности.
Однако очарование жизни состоит в том, что она непредсказуема и время от времени подбрасывает сюрпризы, свойство которых ничем другим нельзя объяснить – только везением: при первом же нечаянном знакомстве с молодым соседом по коммуналке выясняется, что он тоже пишет стихи да ещё с восторгом приглашает в поэтическую студию при доме культуры!
Где и как это было – мной достаточно подробно описано в моём автобиографическом романе. Здесь сто?ит лишь упомянуть, что общая тетрадь моя, заведенная ещё в студенчестве изредка пополнялась стихами, хотя самому этому процессу я по-прежнему не придавал значения.
Ах, какое это было время – замечательные шестидесятые, принёсшие надежды на что-то новое, на перемены к лучшему!
Вообрази, читатель, молодого инженера в возрасте двадцати трёх лет… Конструкторская работа в проектном отделе института в небольшой комнате – день за днём, которые складываются в недели, недели – в месяцы… ежедневное общение с чертежами, графиками, цифрами порой заедает, действует на нервы… а тут вдруг неожиданная командировка в Мурманск летом 1962 года!
Работа института по решению проблемы непотопляемости морских судов требовала изучения некоторых аспектов из практики плавания нашего рыболовного флота в Атлантике. Я был включён в состав небольшой группы, отправлявшейся на Север – туда, где мне бывать не приходилось и о чём я имел смутное представление.
Новые впечатления ошеломили. И Карелия, даже всего лишь увиденная в окошко поезда, и Мурманск с неуходящим за горизонт солнцем. Эта командировка подарила ещё и очарование городом моряков, обрушившим на «кабинетного сидельца» простую истину: вот он, есть, существует другой мир жизни пусть и непростой порой, но настоящей – суровой и прекрасной.
Всё это не могло не повлиять на умонастроение сотрудника института, возвратившегося «на круги своя». Я не мог успокоиться. Эхо мурманских дней настойчиво отзывалось в душе. И однажды в ней словно прорвало запруду – и две с лишним недели, каждый вечер засиживаясь за столом до поздней ночи, я исписывал страницы новой тетради. И откуда что взялось? Ведь ни сном ни духом раньше я не помышлял писать о чём бы то ни было.
Вот так неожиданно, забыв о стихах, я погрузился в прозаическое повествование, в котором Город Моряков не отпускал меня, владел мной, вмешивался в моё лихорадочное писание.
Сидя в своей съёмной каморке (в этой квартире она была крошечной, расположенной у всегда закрытой двери на чёрную лестницу, – вероятнее всего в старые времена она была жилищем какой-нибудь прислуги), я воображением переносился на Север, находил себя за работой в рыбном порту и слышал орущий на всю гавань висящий на столбе динамик:
– Чернышевский! Земснаряд Чернышевский! Дайте возможность Пушкину подойти к причалу! Земснаряд Чернышевский! Чернышевский! Дайте возможность Пушкину подойти к причалу!
Именно так происходило регулирование передвижений плавсредств в тесном пространстве бухты – и я не смог побороть искушения и не повторить команду вездесущего громогласного вещателя в своём повествовании. Не мог никак я забыть тот громовой клич и саму атмосферу, в которой существовали «Пушкин» в виде пассажирского теплохода или, например, в гостинице моряков, в которой я жил, вид бородатого молодого рыбака с книгой в руках (это был роман «Зависть» Олеши).
Каков был ближайший результат моих творческих усилий – о том разговор впереди. А теперь стоит сказать о том, какой неожиданный отзвук мурманской эпопеи обнаружился позже.
Но всё по порядку.
Неукротимая отвага молодости делала своё дело: машинописную копию своей повести я отослал бандеролью… в «Новый мир». Как я узнал потом, поступавшую в журнал прозу курировал его сотрудник Георгий Владимов. Что и говорить, опус мой был несовершенен – и какой-либо реакции со стороны редакции не последовало.
Но какой сюрприз ожидал меня через какое-то время!
Прощло, наверно, года два – и в «Новом мире» был опубликован роман Владимова «Три минуты молчания». Читал я его взахлёб и с ощущением чего-то очень мне знакомого. В нём во всей красе восставал он, город моряков – Мурманск. И среди прочего автор – точно так же, как и я когда-то – сделал акцент на такую подробность: со знакомыми призывами вовсю орал над бухтой динамик:
– Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал!
Тут, грешным делом, я подумал, что – как мне когда-то, засидевшемуся конструктору, – литсотруднику «Нового мира» остобрыдло сидение в редакции. А тут ему, видимо, довелось познакомиться с моим очарованием заполярным городом и романтическими восторгами Севером и рыбаками. И он загорелся феноменальной идеей: выхлопотал отпуск, рванул в Мурманск, чтобы простым матросом на рыболовном траулере отправиться в Атлантику добывать селёдку (потом я узнал, что с отпуском и плаванием именно всё так и было). И отправился он инкогнито – с ясной целью: обрести материал для романа.
Какое же чувство я испытал от этой догадки?
Ну да, что-то вроде белой зависти к тому, как здо?рово у него это получилось от возможной моей «подсказки»! Одно то уже было замечательно, что написанное мной как-то заинтересовало опытного журналиста и побудило его отважиться на далеко не простую вещь: бросить своё дело и на долгое время с потрохами погрузиться в суровую жизнь рыбаков. Итог всего этого получился феноменальный: явился новый литературный герой, этот его Сеня Шалай – своеобразный тип, очень живой и вполне узнаваемый. И если уж и вправду тут какую-то – пусть ничтожную и, что называется, шапочную – роль сыграла моя рукопись, теперь я мог только гордиться тем, что нечаянно помог Владимову родить шедевр. «Три минуты молчания» сделались настольной книгой каждого моряка.
Приключения неофита
Но вернёмся к моему первому прозаическому опыту – к самому началу, к тем первым событиям, последовавшим за завершением моей повести.
Ещё не успел я остыть от вечерних сидений за столом в моей каморке, как вдруг свалилась на меня неожиданная удача, которой помог случай совершенно невероятный – в чём сказалось опятьтаки преимущество обитания в коммунальной квартире: сердобольная соседка, пожилая женщина, прознавшая о грехе сочинительства молодого съёмщика жилья, подсказала, куда ему следует направить свои стопы. И это завершилось таким вот образом…
В угловом доме – в виду Адмиралтейства и Дворцовой площади – то есть в самом начале Невского проспекта, в комнате с большим, покрытым зелёным сукном, столом я читал свою повесть на предмет вступления в литобъединение при журнале «Нева». Слушала меня добрая дюжина начинающих прозаиков – разношёрстная публика: люди разных возрастов, профессий, разного жизненного опыта (похоже, я оказался среди них самым молодым). Естественно, от всего этого я сильно волновался и, когда закончил и началось обсуждение, не мог в точности уяснить себе, чего было больше: похвалы или критики, – но приняли меня в свои ряды единодушно. И уже в самый этот первый – знаменательный для меня – день явились и первые странности.
В перерыве, в ходе приятных для новичка поздравлений, – этаким шустрым бесом – подкатывается ко мне разбитной малый и по-свойски выпаливает: «Ну ты даёшь! Насобачился! Под Пруста лепишь?» Я растерялся – уж не розыгрыш ли? Из тех, что бытуют, быть может, в этой новой для меня среде… И стыдно стало: книг через мои руки прошло достаточно, о самом Прусте читал лишь какую-то статью, а из прозы его не читал ни строчки. Откуда же взяться в моём тексте Прусту? Что за мистика?
Бойкий эрудит, значительно поблёскивая взором, ждал ответа, и я, поборов замешательство, честно признался, что Пруста не читал. Настырный вопрошатель изумился – он мне не поверил! – и панибратски хлопнул меня по плечу: «Ну, старичок, – тогда ты просто гений!» И отошёл с победоносным видом – весьма довольный, что поставил меня на место.
От этого удивительного происшествия как-то нехорошо сделалось у меня внутри, но это сгладилось тем, что мне в самом деле выпала удача и я стал одним из тех, кто ступил на путь словотворчества под крылом известного на всю страну журнала. Отныне у новичка, таким дурацким способом произведенного в «гении», началась двойная жизнь: служба – где он ни словом не заикался о происшедшем – была отдельно и ежевечерние сидения за столом над листом бумаги и посещения регулярных собраний вокруг зелёного стола в редакции «Невы» – тоже отдельно. И скоро неприятное (обидно же, когда тебе не верят) впечатление от того эпизода забылось. Тем более что едва ли так уж плохо, если в твоих писаниях обнаружилось – без всякого твоего участия – нечто «прустовское».
В литобъединении собрались люди толковые, понимающие в ремесле литератора. Заседания, как правило проходили по одной и той же схеме: кто-нибудь из участников, дождавшись очереди, читал свою новую вещь – затем следовал коллективный разбор, на котором, бывало, автору крепко доставалось на орехи.
Руководил семинаром известный поэт Всеволод Рождественский. В наши дискуссии он не вмешивался, лишь изредка делая весьма существенные замечания. Для всех нас он был живым, сохранившимся осколком старой культуры – ведь он общался с Горьким, Блоком, Есениным… И, конечно же, всем хотелось услышать от него о тех легендарных временах и событиях, но, ко всеобщему сожалению «литовцев», руководитель наш не позволял себе пускаться в воспоминания об ушедших днях и деятелях искусства, которых на своём пути он повидал достаточное количество. Впрочем, вероятно, рассказы его об этом были не для всех ушей подряд. Мы прощали старику его замкнутость: вполне возможно, что жизнь приучила его к молчанию – и были благодарны ему уже за одно то, что в наших обсуждениях, спорах и разговорах сочетание слов: социалистический реализм – не произносилось, будто его никогда и не было…
Наши заседания в ЛИТО, как правило, были интересны, и я старался их не пропускать. Разумеется, литературные вкусы и пристрастия у всех участников не могли быть одинаковыми, но в практической работе со словом мы были скорее единомышленниками. И я был уверен, что здесь – в самом центре славного «окна в Европу» – общие интресы объединяют людей искренних. Мне казалось: каждый из присутствующих понимает, что мы не просто занимаемся «складыванием» из слов определённых «картин жизни», но пытаемся разгадать – не только у нас, но и по всей земле, – почему и зачем живёт человек и всякая другая тварь, почему и как растёт дерево или трава… что персонажи, появляющиеся на страницах наших творений, не могут быть полностью выдуманы, подобно сказочным героям, но, равным образом, не должны быть списаны с натуры один к одному.
Конечно, изложенное выше связно сформулировал я гораздо позже, но тогда – будучи неофитом – я это, что называется, чувствовал пу?пом.
При всём том заметно было, что коллеги мои избегают тем, которые могли бы затронуть политику или идеологию, но, с другой стороны, ложь в их писаниях отсутствует, а техникой они вполне владеют. Правда, писания многих из них, пожалуй, были как-то холодноваты, лишены того чувства, которое в старину называли страстью.
Время шло. Минуло, наверно, около года, как я посещал это замечательное сборище – и тут улыбнулась мне новая удача. В ходе шефства отдела прозы журнала над начинающими писателями редколлегией было просмотрено два с лишком десятка наших рассказов и отобрано из них для публикации четыре – и среди этих четырёх оказался и мой рассказ о молодой паре горожан, побывавших на Валааме (это был плод сильного переживания от посещения острова).
Но какой сюрприз уготовила мне коварная фортуна!