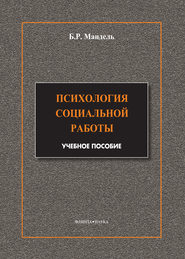По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1931-1956
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обложка одного из ранних печатных изданий пьесы Л.Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора»
Сюжеты многих пьес Пиранделло заимствованы из ранее написанных им новелл. В драматургии Пиранделло в 1910–1917 годов преобладают бытовые комедии на сицилийском диалекте, такие, например, как «Лиола» («Liola», 1916). В дальнейшем они уступают место исполненным парадоксов (порой даже чересчур) философско-психологических драмам на итальянском языке, написанным под влиянием идеалистических концепций.
Сборник новелл Л.Пиранделло. Италия. 50-е годы
Международное признание приносит Пиранделло пьеса «Шесть персонажей в поисках автора» («Se personaggi in cerca d'autore», 1921), которая с огромным успехом с 1922 года идет на сценах Лондона и Нью-Йорка. В драме «Шесть персонажей в поисках автора» воплощено противоречие между искусством и жизнью и представлена социальная трагедия людей, бессильных против навязанной им «маски». Однако римская премьера этой пьесы, самой популярной из 44 пьес драматурга, закончилась скандалом: зрители были оскорблены рассуждениями персонажей об относительности добра и истины. Та же проблема, но в другом аспекте и чуть позже поставлена в драме «Обнаженные одеваются» (1923), в которой автор обличает ханжескую мораль «порядочных» людей.
Премьера пьесы «Генрих IV» («Enrico IV»), по мнению многих критиков, – вершины творчества Пиранделло, состоялась в 1922 году. И снова глазам зрителей предстал бунт против действительности и создание иллюзорного мира.
Драматургическая техника Пиранделло поражает своей виртуозностью. Необычайная точность, концентрированность и лаконичность фразы, насыщенной напряженной внутренней динамикой, выявляет сложную психологическую игру, характеризующую всех его персонажей. При всей своей театральности драматургическая форма Пиранделло тяготеет к монологу. Персонажи его пьес говорят обычно не столько друг с другом, сколько со зрителем. Для построения реплики характерно частое повторение самых обычных разговорных слов, превращающее их в своеобразные голосовые жесты, рассчитанные на мимическое сопровождение и передающие бурлящие в его героях эмоции. Особое и, несомненно, значительное место в пьесах Пиранделло занимают ремарки, имеющие самостоятельное литературное значение. Необычайное формальное мастерство Пиранделло-драматурга, прогрессирующее прямо пропорционально его установке на самоцельное и самодовлеющее «театральное» представление, надо сказать, серьезно еще никем не исследовалось.
В своих зрелых произведениях Пиранделло развивает тему иллюзорности человеческого опыта и непостоянства личности; его герои лишены постоянных ценностей, черты их характера размыты. В мире книг Пиранделло личность относительна, а истина – лишь то, что происходит в данный момент. Писатель срывал со своих персонажей маски, освобождал от иллюзий, придирчиво исследовал их интеллект и личность. Надо сказать, что Пиранделло находился под большим влиянием теории подсознательного, выдвинутой французским психологом-экспериментатором Альфредом Бине. Еще в бытность свою преподавателем Боннского университета Пиранделло познакомился с работами немецких философов-идеалистов. В нестабильности человеческой психики писатель убедился и на собственном опыте, в течение 15 лет ухаживая за психически больной женой.
Со временем Пиранделло становится не только знаменитым драматургом, но и не менее известным режиссером, осуществлявшим постановки собственных пьес. Вообще, каждая новая пьеса Пиранделло, написанная после 1921 года, превращалась в событие общеевропейского значения. Фашистское правительство Италии осыпало Пиранделло наградами и почестями…
В 1923 году писатель уже официально вступает в фашистскую партию и при поддержке Муссолини создает в Риме Национальный художественный театр, который в 1925–1926 годах совершает турне по странам Европы, а в 1927 году – по Южной Америке. Ведущая актриса театра, Марта Абба, становится для драматурга постоянным источником вдохновения. Несмотря на государственные субсидии, театр со временем начинает испытывать серьезные финансовые затруднения, и в 1928 году труппа распускается.
По мнению некоторых исследователей, Пиранделло вел себя с фашистами как соглашатель, приспособленец. В защиту писателя следует сказать, что он не раз во всеуслышание заявлял о своей аполитичности, в ряде случаев выступал с критикой фашистской партии, в связи с чем после закрытия Национального художественного театра у него возникли трудности с постановкой в Италии своих пьес. Некоторое время Пиранделло живет в Париже и Берлине, много путешествует и в 1933 году, по личной просьбе Муссолини, возвращается на родину.
Л.Пиранделло за рабочим столом в последние годы жизни
В 1934 году Пиранделло получает Нобелевскую премию по литературе «за творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В своей речи Пер Хальстрем, член Шведской академии, отметил, что «…самая замечательная черта искусства Пиранделло заключается в его почти магической способности сделать из психологического анализа хорошую пьесу». В ответной речи Пиранделло объяснил свои творческие возможности «любовью и уважением к жизни, без которых было бы невозможно перенести горькие разочарования, тяжкий опыт, жестокие раны и те ошибки невинности, что придают глубину и ценность нашему опыту». Особо были отмечены и новеллы Л.Пиранделло…
Аверс памятной медали Л.Пиранделло
Для Диди это было первым настоящим путешествием. Шутка сказать – из Палермо в Цунику. Почти восемь часов поездом.
Цуника была для нее обетованной землей, правда очень далекой, но далекой скорее во времени, чем в пространстве. Когда Диди была еще совсем маленькой, отец привозил ей из Цуники какие-то необыкновенные душистые плоды, цвет, вкус и запах которых Диди никак не могла припомнить впоследствии, хотя отец и потом продолжал привозить ей оттуда и иссиня-черную шелковицу в глиняных деревенских посудинах, выложенных виноградными листьями, и груши, прозрачно-восковые с одного бока и кроваво-красные с другого, даже с зелеными листиками, и переливающиеся всеми цветами радуги сливы, и фисташки, и сладкие сицилийские лимоны.
И хотя с некоторых пор Диди уже отлично знала, что Цуника – всего лишь пыльный городишко Центральной Сицилии, опоясанный грядами жженой серы и выщербленными известковыми скалами, ослепительно сверкавшими под яростными лучами солнца, и что фрукты – конечно, столь непохожие на сказочные плоды ее детских грез – привозились из поместья Чумиа, расположенного за много километров от этого города, и, тем не менее, при одном упоминании Цуники перед ее глазами вставал непроходимый лес сарацинских олив, возникали просторы густо-зеленых виноградников и ярких садов, обнесенных живыми изгородями, над которыми роились пчёлы, ей мерещились подернутые ряской пруды, цитрусовые рощи, напоенные одуряющим запахом жасмина и апельсиновых деревьев.
Обо всем этом Диди слышала от отца. Сама она никогда не бывала дальше Багерии, что возле Палермо. В белую Багерию, спрятавшуюся от огнедышащей синевы неба в густую зелень, Диди вывозили на лето. В прошлом году она ездила еще ближе, в апельсиновые рощи Санта-Флавия. Правда, тогда еще она бегала в коротких платьицах.
А вот теперь, ради столь длительного путешествия, она впервые в жизни надела длинное платье.
Диди сразу же показалась себе совсем другой. Просто взрослой. Даже взгляд ее посерьезнел и, казалось, под стать платью приобрел трен – она так уморительно поводила бровями, словно волокла трен своего взгляда, и при этом вздергивала свой задорный носик, подбородок с ямочкой и поджимала губки – губки настоящей дамы, облаченной в длинное платье, губки, скрывавшие зубы подобно платью, скрывавшему ее маленькие ножки.
Вот если бы только не этот Коко, ее старший брат, плут Коко, который, устало откинувшись на красную спинку дивана купе первого класса и посасывая сигаретку, приклеившуюся к верхней губе, время от времени так тяжело не вздыхал и нудно не твердил:
– Диди, не смеши меня.
Боже, как она злилась! Боже, как чесались у нее руки!
Счастье Коко, что, следуя моде, он не носил усов! Не то Диди мигом бы выдрала их, набросившись на него, словно разъяренная кошка.
Но Диди только сдержанно улыбалась в ответ и бесстрастно отвечала:
– Милый, если ты такой дурак… Не дурак, а просто идиот. Подумать только! Смеяться над ее платьем или, предположим, даже над выражением ее лица, и это после того серьезного разговора, который был у них накануне вечером по поводу этого таинственного путешествия в Цунику…
Разве не походило их путешествие на военную экспедицию, на штурм хорошо укрепленного горного замка? Разве не было ее длинное платье главным оружием этого штурма? Так что же смешного в том, что она заблаговременно делала смотр этому оружию, училась обращению с ним?
Накануне вечером Коко сказал ей, что, наконец, приспело время всерьез потолковать об их делах. Диди только вытаращила на него глаза. Об их делах? Каких делах? Разве могли быть у неё какие-то дела, о которых стоило бы потолковать, да еще серьезно?
Оправившись от первого удивления, Диди расхохоталась. Она знала только одну особу, как бы нарочно созданную для того, чтобы думать о делах – своих или чужих, безразлично. Этой особой была донна Сабетта, ее гувернантка, которую Диди называла донной Бебе или, в скороговорке, просто донной Бе. Донна Бе постоянно думала о своих делах. Когда Диди особенно досаждала ей своими неожиданными сумасбродными выходками, бедняжка, доведенная до отчаяния, делала вид, что плачет, и, хватаясь руками за голову, начинала причитать:
– Ради всего святого, синьорина, дайте мне подумать о своих делах!
Неужели Коко в тот вечер спутал ее с донной Бе? Нет, он ничего не спутал. В тот вечер Коко открыл ей, что эти благословенные их дела и в самом деле существуют и что они важны, и даже весьма важны, как, впрочем, важно и ее длинное дорожное платье.
Л.Пиранделло. Стилизация Д.Алькорна
С детских лет, привыкнув к тому, что раз, а то и два в неделю отец уезжал в Цунику, и, наслушавшись разговоров о поместье Чумиа, о серных копях Монте-Дьези и о разных других копях, владениях и домах, Диди легко освоилась с мыслью о том, что все эти богатства являются собственностью баронов Брилла и принадлежат ее отцу.
На самом же деле они принадлежали маркизам Нигренти ди Цуника. Отец ее, барон Брилла, был всего лишь опекуном. И вот эта опека, доставлявшая отцу в течение двадцати лет завидное благополучие, а Диди и Коко – полный достаток, должна была кончиться через три месяца.
Диди было чуть больше шестнадцати, и она родилась и выросла среди этого благополучия. Коко же перевалило за двадцать шесть, и он сохранял отчетливое воспоминание о далеких годах нищеты, в которой билась семья, прежде чем отец всеми правдами и неправдами выхлопотал себе опекунство над несметным богатством этих маркизов Цуника.
А вот теперь над ними снова нависает угроза нищеты, быть может, и не такой, как раньше, но которая после двадцати лет благоденствия наверняка показалась бы им еще более тяжелой, и отвратить ее можно, только приведя в исполнение тот план военной кампании, который с таким искусством измыслил отец. Путешествие в Цунику и было первым стратегическим маневром.
По правде говоря, даже не первым. Дело в том, что три месяца назад Коко уже ездил с отцом в Цунику на разведку; он пробыл там около двух недель и познакомился с семейством Нигренти.
Насколько Коко мог понять, семейство состояло из сестры и трех братьев. Твердо он не был в этом уверен, потому что в старинном замке, расположенном на горе, которая господствует над всей Цуникой, проживали еще две восьмидесятилетние старухи, две тетки, принадлежность которых к Нигренти он точно не мог определить. Это были не то сестры деда нынешнего маркиза, не то сестры бабушки.
Самого маркиза звали Андреа, ему было около сорока пяти лет, и по окончании срока опеки к нему, согласно завещательному документу, должна была перейти главная часть наследства. Два брата Андреа: один – дон Фантазер, как окрестил его отец, был священником, а другой, по прозвищу Кавалер, был просто лоботряс. Следовало остерегаться обоих, и больше священника, чем лоботряса. Сестре маркиза было двадцать семь лет – на год больше, чем Коко; звали ее попеременно то Ага- той, то Титиной. Была она хрупкая, как облатка для причастия, и бледная, словно воск; в глазах у нее застыла безысходная тоска, а длинные, костлявые и холодные руки всегда дрожали от смущения, робости и неуверенности в себе. Видимо, бедняжка была самим воплощением добродетели и чистоты: за всю жизнь она не сделала и шагу из замка, ухаживала за двумя восьмидесятилетними старухами, своими тетками, вышивала да еще «божественно» играла на рояле.
Так вот, план отца был простой: прежде чем минет срок опеки, устроить два брака – дочь выдать за маркиза Андреа, а Коко женить на Агате.
Современное издание Пиранделло
Когда Диди объявили об этом впервые, лицо ее вспыхнуло, словно раскаленный уголек, а глаза заискрились негодованием. Ее взорвало не столько известие, сколько тот непринужденный цинизм, с каким Коко сам шел на эту сделку и теперь предлагал ей то же самое в качестве единственного спасения. Как! Выйти ради денег замуж за старика, который ровно на двадцать восемь лет старше ее?
– Ну, уж будто на двадцать восемь? – подтрунивал Коко над этим взрывом негодования. – Какие там двадцать восемь, Диди! Зачем привирать? На двадцать семь… ну, на двадцать семь и несколько месяцев.
– Коко, ты просто мерзавец! Мерзавец, вот и все! – выкрикнула Диди, дрожа от негодования и показывая ему кулачок.
Но Коко не унимался:
– Я же говорю тебе, что женюсь на добродетели! На самой что ни на есть добродетели, Диди, на воплощенной добродетели! Я женюсь на добродетели, а ты называешь меня мерзавцем. Она, правда, на какой-нибудь годик старше меня… Но, видишь ли, милая, я должен тебе заметить, что добродетель не может быть особенно юной. А ведь я так нуждаюсь в добродетели! Ты же знаешь, что я шалопай из шалопаев, распутник из распутников – словом, настоящий проходимец, как утверждает папа. Пора образумиться – буду расхаживать в шикарных туфлях с вышитым на них золотым вензелем и баронской короной, а на голове у меня будет бархатная шапочка, тоже расшитая золотом, с великолепной шелковой кистью. Барон Коко ди Добро д'Етель… Барончик-красавчик! Правда, здорово, Диди?
Тут он дурашливо склонил голову набок и принялся расхаживать с глупым-преглупым видом, потупив глаза, вытянув губы трубочкой и изобразив сложенными ладонями подобие козлиной бородки.
Диди невольно прыснула со смеху.
Воспользовавшись этим, Коко принялся вкрадчиво уговаривать сестру, перечисляя ей все радости, какие он смог бы доставить бедняжке, хрупкой, как причастная облатка, и бледной, как воск. Ведь за те две недели, которые он гостил в Цунике, Агата ясно дала понять, несмотря на всю свою робость, что видит в нем спасителя. Ну да! В этом же все дело! Братья – Кавалер (кстати, на стороне у него есть бабенка, от которой он прижил десять, пятнадцать, двадцать, уж не знаю, сколько там детишек) – заинтересованы в том, чтобы она оставалась незамужней и чахла взаперти. Так вот, для нее Коко будет ярким солнышком, самой жизнью. Он увезет ее с собой в Палермо, в чудесный новый дом, и пойдут празднества, театры, путешествия, поездки в автомобилях… Конечно, спору нет, красавицей ее не назовешь, скорее она даже уродлива, но что поделаешь, для жены сойдет. Главное, она добра и настолько нетребовательна, что будет довольствоваться самым малым.
Он еще долго продолжал болтать все в том же шутовском тоне и только о себе, о своем жертвенном благодеянии, так что Диди, раздосадованная и подстрекаемая любопытством, наконец, не выдержала:
– Ну а какая же роль отводится мне? Тяжело вздохнув, Коко ответил: