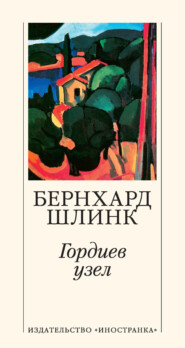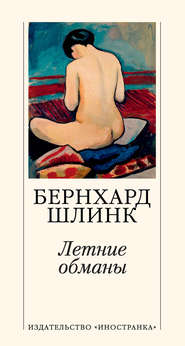По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвращение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дедушка кивнул:
– Твой отец меня тоже об этом спрашивал.
– Ну и что ты ответил?
– Рыцарь был свободным человеком. Он не обязан был держать сторону австрийцев, а мог встать на сторону швейцарцев или не вставать ни на чью сторону.
– Но ведь он не сражался на швейцарской стороне. Он действовал исподтишка.
– Даже если бы он сражался на стороне швейцарцев, он не мог бы оказать им большей помощи. Если правильный поступок приходится совершать тайком, он от этого не становится неправильным.
Я стал допытываться, что произошло потом с рыцарем фон Хюненбергом, но дедушка этого не знал.
Битва при Земпахе. Австрийцы снова понадеялись на свое тяжелое вооружение, они снова недооценили боевые навыки и храбрость пастухов и крестьян. Правда, швейцарцам, атакующим клином, до полудня не удается прорвать боевой строй австрийцев, ощетинившийся копьями. Однако день битвы выдался самым жарким в году, солнце раскалило железные латы всадников, и доспехи становились все тяжелее и тяжелее. К тому времени, когда Арнольд Винкельрид ухватил столько вражеских копий, сколько поместилось в его руках, и, бросившись вперед, накрыл их своим телом, австрийцы были уже слишком изнурены, чтобы противостоять натиску швейцарцев. Они снова потерпели полное поражение.
Поначалу я удивлялся только тому, как это Арнольд Винкельрид, совершая свой подвиг, успел произнести такую длинную фразу: «Граждане Швейцарии, я проложу тропу к свободе. Позаботьтесь о моей жене и детях!»
Однако дедушка не успокоился, пока не втолковал мне, что австрийцы проиграли сражение, потому что не сделали должных выводов из поражения у горы Моргартен.
– Недооценка противника, тяжелое вооружение, превратности, вызванные силами природы, каковыми оказалась не вода, а солнце, – избежать ошибок не может никто. Однако никто не обязан повторять одну и ту же ошибку.
Когда я усвоил этот урок, он преподал мне следующий:
– Полезный урок надо извлекать не только из своих поражений, но также из одержанных тобою побед.
Он рассказал об англичанах, которые во время Столетней войны выигрывали у французов битву за битвой благодаря своим длинным лукам, однако пришли в полное замешательство, когда французы тоже взяли на вооружение длинные луки и успешно применили их в битве.
Битва при Санкт-Якобе-на-Бирсе. Само имя противника – арманьяки – приводило швейцарцев в трепет. Дедушка рассказал об этом тридцатитысячном войске, составленном из французских, испанских и английских наемников, закаленных в Столетней войне, но превратившихся в жестоких разбойников. Французский король более не нуждается в них и охотно предоставляет в распоряжение австрийцев для борьбы со швейцарцами, поставив во главе дофина, жаждущего получить корону. Против них всего полторы тысячи швейцарцев. Их выслали вперед не на битву, это всего лишь передовой разведывательный отряд, однако, ввязавшись в стычку и одержав сначала одну, а потом и другую победу, а потом еще одну, они в конце концов оказались лицом к лицу со всем войском арманьяков. Они отступили, укрылись за стенами карантинного дома церкви Святого Якоба и отражали натиск до самого вечера, сражаясь до последнего человека. Арманьяки победили, но понесли столь большие потери, что им расхотелось воевать и они заключили мир.
– А что в этом поучительного?
Дед засмеялся:
– Даже самые безрассудные дела надо делать с полной самоотдачей. Иногда это приносит успех.
6
И еще одна тема вызывала у дедушки нескончаемый поток историй – это тема судебных ошибок. Среди них у меня тоже были особенно любимые, которые я готов был слушать снова и снова. И здесь мы тоже обсуждали мораль этих историй. Хотя сами истории были непростые. Ведь несмотря на то, что отличительным признаком судебной ошибки является несправедливость, знаменитые судебные ошибки зачастую приобретали историческое значение, далеко выходившее за пределы несправедливости решения, а порой несправедливость приводила даже к справедливым последствиям.
Процесс графа фон Шметтау против мельника Арнольда. Мельник отказывается платить графу за аренду, потому что ландрат, вырыв пруд для разведения карпов, отвел от мельницы воду, и тогда граф подает на мельника в суд. Граф выигрывает дело в первой, во второй и в последней инстанции, представленной судебной палатой Берлина. Мельник пишет прошение Фридриху Великому, тот, заподозрив за этим решением кумовство, подкуп и подлость, приказывает посадить судей в тюрьму, лишить ландрата должности, засыпать пруд и отменить приговор, вынесенный в пользу графа. Это было чистым произволом и несправедливостью, потому что воды для мельничных колес хватало и так, аренда окупалась, мельник же был мошенником. Однако это распоряжение поддержало авторитет Фридриха как справедливого короля и Пруссии как государства, в котором перед судом все равны – слабые и сильные, бедные и богатые.
В случае с судом над Орлеанской девой несправедливость хотя и не оборачивается справедливостью, однако в итоге приводит к такому результату, который иначе вряд ли был бы достигнут. Шестнадцатилетняя Жанна, красивая крестьянская девочка, появляется при дворе Карла, который слишком слаб, чтобы победить англичан, короноваться в Реймсе и стать французским королем. Франция вот-вот окажется под пятой англичан. Однако происходит чудо: французское войско под предводительством Жанны одерживает победу; ей удается завоевать Орлеан, добиться возведения Карла на французский престол и двинуться с войском на Париж. Тут ее берут в плен и выдают англичанам. Король, который мог бы освободить ее, не предпринимает ничего. Стойкую женщину подвергают пыткам и насилию, епископ Пьер Кошон приговаривает ее к смерти по обвинению в колдовстве, и ее сжигают на костре как ведьму. Однако суд и вынесенный Жанне приговор сделали ее мученицей, символом освобождения Франции, и через двадцать лет англичан удается изгнать. Как без мельника Арнольда не существовало бы прусское правовое государство, так без Жанны не состоялось бы освобождение Франции.
А вот следующая история была всего лишь ужасной, и ничего более. Впрочем, она и не так знаменита. В 1846 году Меннон Элькнер, красивая дочь портного-протестанта из Нанси, полюбила Эжена Дюрвиеля, сына палача-католика, и он ответил ей взаимностью. Палач, которому соседка портного рассказала о любовных отношениях юноши и девушки, был против их свадьбы и вырвал у Меннон обещание, что она откажется от Эжена. Девушка страдала вдвойне: она потеряла любимого и ждала ребенка. Она родила двух мертвых мальчиков и закопала их в саду. И тут ее опять выследила соседка; Меннон схватили, обвинили в двойном детоубийстве и приговорили к смерти через отсечение головы. Слушатель уже догадывается, что будет дальше. Однако дело обернулось и того хуже. Эжен заступает на должность палача вместо своего отца и поднимается на эшафот, чтобы совершить свою первую казнь, зная только, что ему предстоит отрубить голову женщине, повинной в двойном детоубийстве. Узнав в несчастной женщине Меннон, он покрывается бледностью, голова у него идет кругом, колени слабеют, руки дрожат. Отец, стоящий тут же, подбадривает его, а чиновники приказывают ему выполнить свою работу. Он дважды ударяет мечом, ранит Меннон в подбородок и в плечо, потом отбрасывает прочь свое грозное оружие, не в силах продолжить казнь. Однако казнь должна свершиться, и честь семьи палача надо спасать – отец, вне себя от ярости, набрасывается на Меннон с ножом, чтобы завершить начатое сыном. С каждым ударом толпа зрителей приходит во все большее негодование. Потом толпа штурмует эшафот.
Бабушка, которая по моей просьбе читала мне стихи о битвах под Лютценом и Гохштедтом, о мельнике Арнольде и о Жанне из Орлеана, знала наизусть и безыскусное непритязательное стихотворение безымянного автора о судьбе прекрасной Меннон. Дедушка доходил в своем рассказе до того места, когда взбунтовалась толпа, и обрывал историю:
– Попроси бабушку. Она лучше умеет рассказать, чем все закончилось.
Всего стихотворения я уже не помню, но две последние строфы звучат примерно так:
Толпа ревет, обрушились каменья
На головы жестоких палачей.
А что Меннон, возможно ли спасенье?
Несчастную несут, зовут врачей.
Она жива, к Спасителю взывает,
Но смерть ее от мук телесных избавляет.
Пять жизней суд забрал неотвратимый!
А начиналось все с любви большой,
Продолжилось же казнью нестерпимой.
Как не оплакать жребий наш земной?
Пусть жертвы там, где вечности теченье,
Обнимутся, достигнув примиренья.
7
С войнами, битвами, героическими деяниями, судами и приговорами, которыми так интересовался дед, бабушка соприкасалась только через поэзию. Она считала, что война – это глупая, очень глупая игра, отстать от которой мужчины никак не могут, потому что еще не повзрослели, да, пожалуй, и не повзрослеют никогда. Она прощала дедушке его страсть к военной истории, потому что он выступал против употребления алкоголя, пагубной привычки, которую она считала почти такой же злой напастью, как война, и отстаивал избирательное право для женщин, а еще он всегда уважал ее иной, миролюбивый, женский взгляд на вещи и образ мыслей. Возможно, их брак вообще был во многом обязан именно этому уважению и на нем держался. Летом, когда дедушка работал в Италии, его навестила мать. Она приехала напомнить ему, что пора бы создать семью, и перечислила тех девушек, которые, как она предполагала, ему не откажут, если он посватается. А еще она упомянула его кузину, которую встретила на чьих-то похоронах и которая ей очень понравилась. Следующим летом дедушка съездил к своим родителям, поработал на сенокосе и, удовлетворяя свой интерес к истории, в одиночку исходил все окрестности, осматривая замки; так продолжалось до тех пор, пока мать наконец не напомнила ему, что пора бы навестить тетушку. Там он и встретился с кузиной, которую не видел с самого детства. С фотографии этого времени на нас глядит молодая женщина с густыми темными волосами, живым и гордым взором и пухлыми губками, в которых дремлет затаенная чувственность и одновременно готовность к улыбке, словно красавица в следующий миг рассмеется веселым смехом. Интересно, где были глаза у молодых мужчин в ее краях и как получилось, что кузина дождалась своего родственника, у которого к тому времени волосы уже изрядно поредели. В своих мемуарах дед описывает их короткий разговор у окна и как он «был поражен ее умными мыслями, которые она, держась спокойно, уверенно и скромно, изложила своему кузену, склонному в ту пору к заносчивости». После этой встречи между ними завязалась переписка – «о чем мы друг другу писали, в моей памяти не сохранилось», – он в письме предложил ей руку и сердце, она в письме приняла его предложение, через год состоялась помолвка, а еще через год сыграли свадьбу.
Не знаю, были ли они счастливы в браке. Впрочем, я не уверен, имеет ли вообще смысл спрашивать, был ли их брак счастливым и задавали ли они себе этот вопрос. Они прожили вместе целую жизнь, в которой были и хорошие, и плохие дни, они относились друг к другу с уважением и доверяли друг другу. Я никогда не слышал, чтобы они всерьез ссорились, однако часто был свидетелем того, как они поддразнивали друг друга, как шутили и смеялись. Им было приятно и радостно друг с другом, приятно было показаться на людях рука об руку, ей – с видным мужчиной, каким мой дед стал в старости, ему – с красивой женщиной, какой она до старости оставалась. И все же на них словно бы лежала какая-то тень. Все было словно приглушенным: то, как они радовались друг другу, их шутки и смех, их разговоры обо всем, что ни есть в этом мире. Ранняя смерть моего отца отбросила тень на их жизнь, и тень эта никогда не исчезала.
И это я тоже понял много позже, читая дедовы мемуары. Иногда в разговоре дедушка и бабушка вспоминали моего отца, и это происходило так естественно, и рассказывали они так обстоятельно, что у меня не возникало чувства, будто они не хотят о нем говорить. Так я узнал, какие из дедушкиных историй мой отец любил больше всего, узнал, что он собирал почтовые марки, пел в хоре, играл в ручной мяч, рисовал и много читал, был близорук, хорошо учился в школе и был прилежным студентом юридического факультета, узнал, что он не служил в армии. В гостиной висела его фотография. На ней стройный молодой человек в костюме с брюками-гольф из ткани с рисунком в елочку стоял у стены, опершись правой рукой о карниз и скрестив ноги. Поза его была свободной, но глаза за стеклами очков выдавали нетерпение, словно молодой человек ожидал, что же произойдет дальше, чтобы, если ему это не понравится, не мешкая заняться чем-то другим. В чертах его лица я заметил ум, решимость и некоторую заносчивость, но, быть может, я подумал так, потому что сам хотел обладать такими же свойствами характера. Глаза его были посажены, как и мои, чуть раскосо, один глаз немного больше другого. Иного сходства со мной я в нем не заметил.
Мне этого было вполне достаточно. Мама никогда не говорила о моем отце, и в доме не было его фотографий. От бабушки с дедушкой я слышал, что он отправился на войну как сотрудник швейцарского Красного Креста и погиб. Не вернулся с войны, пал, пропал без вести – эти формулы безвозвратности я слышал в детстве так часто, и они долгое время представлялись мне могильными плитами, которые не сдвинешь с места. Портретные фотографии мужчин в военной форме, иногда с черным флером, прикрепленным к серебряной рамочке, которые я видел в домах моих школьных товарищей, вызывали во мне такое же болезненное впечатление, как и маленькие фотографии покойников, которые в некоторых странах помещают на могильном камне. Люди словно бы не хотят оставлять мертвецов в покое, вытаскивают их на свет, даже в смерти требуя от них военной выправки. Если для вдов это единственный способ зримо поминать своих мертвых мужей, то уж лучше бы они, как моя мама, отказались от этой зримой памяти.
Как бы ни далеко от меня был мой умерший отец, одно нас с ним все-таки связывало. Бабушка рассказала мне однажды, что отец любил стихи и что самой его любимой была баллада Теодора Фонтане «Джон Мейнард». В тот же вечер я заучил ее наизусть. Бабушке это понравилось, и многие годы подряд она то об одном, то о другом стихотворении говорила, что его любил мой отец, и я сразу учил это стихотворение наизусть. Быть может, она, знавшая наизусть много стихов, просто одобрительно относилась к тому, что я по вечерам учил стихи?
8
После ужина бабушка и дедушка убирали со стола, мыли посуду, поливали цветы в саду, а потом принимались за работу – они редактировали серию «Романы для удовольствия и приятного развлечения». Они садились за обеденный стол, опускали пониже лампу, висевшую под потолком, и принимались читать и править рукописи, длинные полосы гранок и сверстанные книги, сложенные по формату журнальной тетрадки. Иногда они сами садились писать; они настояли на том, чтобы в конце каждого выпуска серии помещалась краткая поучительная и познавательная статья, и, если таковой не было, сами ее сочиняли: о важности чистки зубов, о борьбе с храпом, о разведении пчел, о развитии почтового дела, о регулировании течения реки Линт Конрадом Эшером, о последних днях Ульриха фон Гуттена[3 - Ульрих фон Гуттен (1488–1523) – немецкий писатель-гуманист, видный деятель Реформации; после провала антипапского восстания бежал в Швейцарию, где вскоре умер; последние дни провел в убежище на острове Уфенау на Цюрихском озере.]. Они порой и романы переписывали, если считали, что какой-то пассаж написан беспомощно и выглядит неубедительно или непристойно, или же если им в голову приходила более удачная мысль. Издатель предоставил им полную свободу. Когда я сделался постарше и меня перестали укладывать в постель сразу после того, как пропоет дрозд, дед разрешал мне посидеть с ними за одним столом. Мы сидели в световом кругу лампы, низко опущенной над светлой столешницей, огромная комната тонула в полумраке. Мне нравилась эта атмосфера, я чувствовал себя уютно. Я что-нибудь читал или учил наизусть стихотворение, писал письмо маме или делал записи в моем каникулярном дневнике. Если я обращался к дедушке и бабушке с вопросом, отвлекая их от работы, они всегда терпеливо отвечали. И все же я не смел надоедать им, я видел, насколько они поглощены работой. Они обменивались друг с другом скупыми репликами, и я с моими расспросами чувствовал себя пустомелей. Вот я и читал, учил стихи и писал, не нарушая тишины. Иногда я осторожно, чтобы они не заметили, поднимал голову и глядел на них: на деда, карие глаза которого были очень внимательны, когда он работал, но могли и отрешенно смотреть вдаль, и на бабушку, которая все делала с необычайной легкостью, читала с улыбкой, писала и правила рукописи легкой и быстрой рукой. А между тем работа ей, наверное, давалась тяжелее, чем деду; он любил книги по истории, а к романам, которые они редактировали, относился деловито и отчужденно, она же любила литературу, любила романы и стихи, обладала непогрешимым литературным вкусом и, должно быть, страдала оттого, что ей приходилось иметь дело с банальными поделками.
Мне эти романы читать не позволялось. Время от времени, когда они обсуждали какую-нибудь книгу, во мне просыпалось любопытство. На мои расспросы они отвечали, что роман этот мне вовсе читать не надо: предмет, о котором в нем идет речь, гораздо лучше изложен в романе или новелле Конрада Фердинанда Мейера, или Готфрида Келлера, или какого-нибудь другого классика. Бабушка вставала из-за стола и приносила мне эту самую «гораздо лучшую» книгу.
Вручая мне при отъезде лишние сверстанные экземпляры, которые могли пригодиться дома для черновиков, они строго-настрого наказывали мне не читать, что там написано. Лучше бы уж они мне вообще ничего не давали! Однако бумага тогда стоила дорого, а мама зарабатывала мало. Поэтому долгие школьные годы все, что не нужно было сдавать учителям на проверку, я записывал на чистой стороне «оборотки»: латинские, английские и греческие слова, задачки по арифметике и геометрии, черновики сочинений, изложений и описаний картин, названия столиц, рек и гор, исторические даты, послания, адресованные соученикам и соученицам, сидящим несколькими партами дальше. Бумага для сверстанных романных тетрадок была прочная, а сами тетрадки были почти в сантиметр толщиной; я одну за другой отрывал исписанные страницы, тетрадки становились тоньше и тоньше, однако скрепки по-прежнему удерживали на сгибе клочья бумаги, остававшиеся от вырванных листов. Мне нравятся толстые тетради с листами из плотной бумаги. И поскольку я был послушный ребенок, я много лет подряд держал обещание и не читал того, что было написано на обороте.
9
Поначалу дедушка и бабушка считали, что летняя жизнь у них для меня слишком одинока, и они пытались познакомить меня с детьми моего возраста. Они знали своих соседей, переговорили с несколькими семьями и в конце концов достигли того, что меня стали приглашать на дни рождения, загородные экскурсии и в совместные походы в купальню. Я видел, как они старались ради меня, добиваясь этих приглашений, и не решался их отклонять. Однако я каждый раз радовался, когда общение со сверстниками кончалось и я снова оказывался дома у дедушки с бабушкой.
Порой я не понимал местных детей, говоривших на здешнем диалекте. Я не понимал с полуслова, о чем они говорят. Вся система школьного обучения, все их школьные дела и внешкольные развлечения, вся их социальная организация – все это было совершенно иным, чем у меня на родине. Они возвращались домой не сразу после уроков, а после организованных школой спортивных мероприятий, после спевки в хоре или театральных репетиций, возвращались только в четыре или в пять часов, а я после школы вместе со своими товарищами всю вторую половину дня был предоставлен сам себе. И хотя наши уличные шайки и войны, которые мы между собой вели, были совершенно безобидными, они никак не подготовили меня к добропорядочным играм благовоспитанных швейцарских детей.
Даже в купальне они вели себя не так, как мы. В воде никто не устраивал потасовок, никого не сталкивали в воду, не окунали в нее с головой. Девочки и мальчики вместе и на равных правах играли в водное поло, играли ловко и по правилам. Купальня представляла собой деревянную конструкцию, уходящую с берега в озеро; деревянная клеть размером двадцать метров на двадцать располагалась под водой, обеспечивая перепад глубины от метра до метра семидесяти, держалась она на сваях, с трех сторон ее обрамляли кабинки для переодевания и деревянные мостки, и в этой купальне барахтались те, кто не умел плавать; с четвертой стороны купальня была открыта к озеру, и, чтобы заплыть в него, нужно было поднырнуть под канат. Как-то раз, стараясь произвести впечатление на швейцарских детишек, я из чистого социального протеста взобрался на крышу самой дальней кабинки для переодевания и спрыгнул прямо в озеро.
Возможно, эти встречи и общение могли бы перерасти в приятельские отношения и дружбу, если бы мы виделись почаще. Однако почти сразу после того, как я приезжал к дедушке и бабушке, швейцарских детей распускали на каникулы, а бывало так, что они уезжали еще раньше и возвращались незадолго до моего отъезда. С одним мальчиком я сошелся поближе на почве общего интереса к полярным экспедициям. Нас интересовало, был ли Кук обманщиком, а Пири – дилетантом, был ли Скотт великим человеком, или безумцем, или тем и другим вместе, двигало ли Амундсеном голое тщеславие, или он выполнял миссию. Отцу моего приятеля я, кажется, тоже понравился.
«У тебя глаза как у твоего отца», – сказал он мне, увидев меня в первый раз. Он произнес это с дружелюбной и печальной улыбкой, которая смутила меня больше, чем его слова. Однако вопреки всем благим намерениям, которые были у меня и у этого мальчика, нам так и не удалось наладить друг с другом переписку.
Так вот и получилось, что на каникулах у меня не было товарищей моего возраста, с которыми я мог бы играть. И я снова совершал все те же прогулки к озеру, пешие походы к ущелью, к дальнему пруду и на возвышенности, с которых открывался вид на озеро и на Альпы. Я снова совершал все те же вылазки в замок в Рапперсвиле, на остров Уфенау, в большой монастырь, в музеи и в картинную галерею. Регулярные пешие походы и вылазки были такой же неотъемлемой частью каникул, как и работа в саду. Собирать яблоки, ягоды, салат и овощи, мотыжить грядки, полоть сорняки, срезать увядшие цветы, подстригать живую изгородь, стричь траву, укладывать компост, заполнять лейки водой и поливать огород и цветы – все эти работы повторялись по заведенному порядку, поэтому порядок всех других занятий мне представлялся естественным. К естественному ритму каникул относились и похожие один на другой вечера за столом под лампой.
– Твой отец меня тоже об этом спрашивал.
– Ну и что ты ответил?
– Рыцарь был свободным человеком. Он не обязан был держать сторону австрийцев, а мог встать на сторону швейцарцев или не вставать ни на чью сторону.
– Но ведь он не сражался на швейцарской стороне. Он действовал исподтишка.
– Даже если бы он сражался на стороне швейцарцев, он не мог бы оказать им большей помощи. Если правильный поступок приходится совершать тайком, он от этого не становится неправильным.
Я стал допытываться, что произошло потом с рыцарем фон Хюненбергом, но дедушка этого не знал.
Битва при Земпахе. Австрийцы снова понадеялись на свое тяжелое вооружение, они снова недооценили боевые навыки и храбрость пастухов и крестьян. Правда, швейцарцам, атакующим клином, до полудня не удается прорвать боевой строй австрийцев, ощетинившийся копьями. Однако день битвы выдался самым жарким в году, солнце раскалило железные латы всадников, и доспехи становились все тяжелее и тяжелее. К тому времени, когда Арнольд Винкельрид ухватил столько вражеских копий, сколько поместилось в его руках, и, бросившись вперед, накрыл их своим телом, австрийцы были уже слишком изнурены, чтобы противостоять натиску швейцарцев. Они снова потерпели полное поражение.
Поначалу я удивлялся только тому, как это Арнольд Винкельрид, совершая свой подвиг, успел произнести такую длинную фразу: «Граждане Швейцарии, я проложу тропу к свободе. Позаботьтесь о моей жене и детях!»
Однако дедушка не успокоился, пока не втолковал мне, что австрийцы проиграли сражение, потому что не сделали должных выводов из поражения у горы Моргартен.
– Недооценка противника, тяжелое вооружение, превратности, вызванные силами природы, каковыми оказалась не вода, а солнце, – избежать ошибок не может никто. Однако никто не обязан повторять одну и ту же ошибку.
Когда я усвоил этот урок, он преподал мне следующий:
– Полезный урок надо извлекать не только из своих поражений, но также из одержанных тобою побед.
Он рассказал об англичанах, которые во время Столетней войны выигрывали у французов битву за битвой благодаря своим длинным лукам, однако пришли в полное замешательство, когда французы тоже взяли на вооружение длинные луки и успешно применили их в битве.
Битва при Санкт-Якобе-на-Бирсе. Само имя противника – арманьяки – приводило швейцарцев в трепет. Дедушка рассказал об этом тридцатитысячном войске, составленном из французских, испанских и английских наемников, закаленных в Столетней войне, но превратившихся в жестоких разбойников. Французский король более не нуждается в них и охотно предоставляет в распоряжение австрийцев для борьбы со швейцарцами, поставив во главе дофина, жаждущего получить корону. Против них всего полторы тысячи швейцарцев. Их выслали вперед не на битву, это всего лишь передовой разведывательный отряд, однако, ввязавшись в стычку и одержав сначала одну, а потом и другую победу, а потом еще одну, они в конце концов оказались лицом к лицу со всем войском арманьяков. Они отступили, укрылись за стенами карантинного дома церкви Святого Якоба и отражали натиск до самого вечера, сражаясь до последнего человека. Арманьяки победили, но понесли столь большие потери, что им расхотелось воевать и они заключили мир.
– А что в этом поучительного?
Дед засмеялся:
– Даже самые безрассудные дела надо делать с полной самоотдачей. Иногда это приносит успех.
6
И еще одна тема вызывала у дедушки нескончаемый поток историй – это тема судебных ошибок. Среди них у меня тоже были особенно любимые, которые я готов был слушать снова и снова. И здесь мы тоже обсуждали мораль этих историй. Хотя сами истории были непростые. Ведь несмотря на то, что отличительным признаком судебной ошибки является несправедливость, знаменитые судебные ошибки зачастую приобретали историческое значение, далеко выходившее за пределы несправедливости решения, а порой несправедливость приводила даже к справедливым последствиям.
Процесс графа фон Шметтау против мельника Арнольда. Мельник отказывается платить графу за аренду, потому что ландрат, вырыв пруд для разведения карпов, отвел от мельницы воду, и тогда граф подает на мельника в суд. Граф выигрывает дело в первой, во второй и в последней инстанции, представленной судебной палатой Берлина. Мельник пишет прошение Фридриху Великому, тот, заподозрив за этим решением кумовство, подкуп и подлость, приказывает посадить судей в тюрьму, лишить ландрата должности, засыпать пруд и отменить приговор, вынесенный в пользу графа. Это было чистым произволом и несправедливостью, потому что воды для мельничных колес хватало и так, аренда окупалась, мельник же был мошенником. Однако это распоряжение поддержало авторитет Фридриха как справедливого короля и Пруссии как государства, в котором перед судом все равны – слабые и сильные, бедные и богатые.
В случае с судом над Орлеанской девой несправедливость хотя и не оборачивается справедливостью, однако в итоге приводит к такому результату, который иначе вряд ли был бы достигнут. Шестнадцатилетняя Жанна, красивая крестьянская девочка, появляется при дворе Карла, который слишком слаб, чтобы победить англичан, короноваться в Реймсе и стать французским королем. Франция вот-вот окажется под пятой англичан. Однако происходит чудо: французское войско под предводительством Жанны одерживает победу; ей удается завоевать Орлеан, добиться возведения Карла на французский престол и двинуться с войском на Париж. Тут ее берут в плен и выдают англичанам. Король, который мог бы освободить ее, не предпринимает ничего. Стойкую женщину подвергают пыткам и насилию, епископ Пьер Кошон приговаривает ее к смерти по обвинению в колдовстве, и ее сжигают на костре как ведьму. Однако суд и вынесенный Жанне приговор сделали ее мученицей, символом освобождения Франции, и через двадцать лет англичан удается изгнать. Как без мельника Арнольда не существовало бы прусское правовое государство, так без Жанны не состоялось бы освобождение Франции.
А вот следующая история была всего лишь ужасной, и ничего более. Впрочем, она и не так знаменита. В 1846 году Меннон Элькнер, красивая дочь портного-протестанта из Нанси, полюбила Эжена Дюрвиеля, сына палача-католика, и он ответил ей взаимностью. Палач, которому соседка портного рассказала о любовных отношениях юноши и девушки, был против их свадьбы и вырвал у Меннон обещание, что она откажется от Эжена. Девушка страдала вдвойне: она потеряла любимого и ждала ребенка. Она родила двух мертвых мальчиков и закопала их в саду. И тут ее опять выследила соседка; Меннон схватили, обвинили в двойном детоубийстве и приговорили к смерти через отсечение головы. Слушатель уже догадывается, что будет дальше. Однако дело обернулось и того хуже. Эжен заступает на должность палача вместо своего отца и поднимается на эшафот, чтобы совершить свою первую казнь, зная только, что ему предстоит отрубить голову женщине, повинной в двойном детоубийстве. Узнав в несчастной женщине Меннон, он покрывается бледностью, голова у него идет кругом, колени слабеют, руки дрожат. Отец, стоящий тут же, подбадривает его, а чиновники приказывают ему выполнить свою работу. Он дважды ударяет мечом, ранит Меннон в подбородок и в плечо, потом отбрасывает прочь свое грозное оружие, не в силах продолжить казнь. Однако казнь должна свершиться, и честь семьи палача надо спасать – отец, вне себя от ярости, набрасывается на Меннон с ножом, чтобы завершить начатое сыном. С каждым ударом толпа зрителей приходит во все большее негодование. Потом толпа штурмует эшафот.
Бабушка, которая по моей просьбе читала мне стихи о битвах под Лютценом и Гохштедтом, о мельнике Арнольде и о Жанне из Орлеана, знала наизусть и безыскусное непритязательное стихотворение безымянного автора о судьбе прекрасной Меннон. Дедушка доходил в своем рассказе до того места, когда взбунтовалась толпа, и обрывал историю:
– Попроси бабушку. Она лучше умеет рассказать, чем все закончилось.
Всего стихотворения я уже не помню, но две последние строфы звучат примерно так:
Толпа ревет, обрушились каменья
На головы жестоких палачей.
А что Меннон, возможно ли спасенье?
Несчастную несут, зовут врачей.
Она жива, к Спасителю взывает,
Но смерть ее от мук телесных избавляет.
Пять жизней суд забрал неотвратимый!
А начиналось все с любви большой,
Продолжилось же казнью нестерпимой.
Как не оплакать жребий наш земной?
Пусть жертвы там, где вечности теченье,
Обнимутся, достигнув примиренья.
7
С войнами, битвами, героическими деяниями, судами и приговорами, которыми так интересовался дед, бабушка соприкасалась только через поэзию. Она считала, что война – это глупая, очень глупая игра, отстать от которой мужчины никак не могут, потому что еще не повзрослели, да, пожалуй, и не повзрослеют никогда. Она прощала дедушке его страсть к военной истории, потому что он выступал против употребления алкоголя, пагубной привычки, которую она считала почти такой же злой напастью, как война, и отстаивал избирательное право для женщин, а еще он всегда уважал ее иной, миролюбивый, женский взгляд на вещи и образ мыслей. Возможно, их брак вообще был во многом обязан именно этому уважению и на нем держался. Летом, когда дедушка работал в Италии, его навестила мать. Она приехала напомнить ему, что пора бы создать семью, и перечислила тех девушек, которые, как она предполагала, ему не откажут, если он посватается. А еще она упомянула его кузину, которую встретила на чьих-то похоронах и которая ей очень понравилась. Следующим летом дедушка съездил к своим родителям, поработал на сенокосе и, удовлетворяя свой интерес к истории, в одиночку исходил все окрестности, осматривая замки; так продолжалось до тех пор, пока мать наконец не напомнила ему, что пора бы навестить тетушку. Там он и встретился с кузиной, которую не видел с самого детства. С фотографии этого времени на нас глядит молодая женщина с густыми темными волосами, живым и гордым взором и пухлыми губками, в которых дремлет затаенная чувственность и одновременно готовность к улыбке, словно красавица в следующий миг рассмеется веселым смехом. Интересно, где были глаза у молодых мужчин в ее краях и как получилось, что кузина дождалась своего родственника, у которого к тому времени волосы уже изрядно поредели. В своих мемуарах дед описывает их короткий разговор у окна и как он «был поражен ее умными мыслями, которые она, держась спокойно, уверенно и скромно, изложила своему кузену, склонному в ту пору к заносчивости». После этой встречи между ними завязалась переписка – «о чем мы друг другу писали, в моей памяти не сохранилось», – он в письме предложил ей руку и сердце, она в письме приняла его предложение, через год состоялась помолвка, а еще через год сыграли свадьбу.
Не знаю, были ли они счастливы в браке. Впрочем, я не уверен, имеет ли вообще смысл спрашивать, был ли их брак счастливым и задавали ли они себе этот вопрос. Они прожили вместе целую жизнь, в которой были и хорошие, и плохие дни, они относились друг к другу с уважением и доверяли друг другу. Я никогда не слышал, чтобы они всерьез ссорились, однако часто был свидетелем того, как они поддразнивали друг друга, как шутили и смеялись. Им было приятно и радостно друг с другом, приятно было показаться на людях рука об руку, ей – с видным мужчиной, каким мой дед стал в старости, ему – с красивой женщиной, какой она до старости оставалась. И все же на них словно бы лежала какая-то тень. Все было словно приглушенным: то, как они радовались друг другу, их шутки и смех, их разговоры обо всем, что ни есть в этом мире. Ранняя смерть моего отца отбросила тень на их жизнь, и тень эта никогда не исчезала.
И это я тоже понял много позже, читая дедовы мемуары. Иногда в разговоре дедушка и бабушка вспоминали моего отца, и это происходило так естественно, и рассказывали они так обстоятельно, что у меня не возникало чувства, будто они не хотят о нем говорить. Так я узнал, какие из дедушкиных историй мой отец любил больше всего, узнал, что он собирал почтовые марки, пел в хоре, играл в ручной мяч, рисовал и много читал, был близорук, хорошо учился в школе и был прилежным студентом юридического факультета, узнал, что он не служил в армии. В гостиной висела его фотография. На ней стройный молодой человек в костюме с брюками-гольф из ткани с рисунком в елочку стоял у стены, опершись правой рукой о карниз и скрестив ноги. Поза его была свободной, но глаза за стеклами очков выдавали нетерпение, словно молодой человек ожидал, что же произойдет дальше, чтобы, если ему это не понравится, не мешкая заняться чем-то другим. В чертах его лица я заметил ум, решимость и некоторую заносчивость, но, быть может, я подумал так, потому что сам хотел обладать такими же свойствами характера. Глаза его были посажены, как и мои, чуть раскосо, один глаз немного больше другого. Иного сходства со мной я в нем не заметил.
Мне этого было вполне достаточно. Мама никогда не говорила о моем отце, и в доме не было его фотографий. От бабушки с дедушкой я слышал, что он отправился на войну как сотрудник швейцарского Красного Креста и погиб. Не вернулся с войны, пал, пропал без вести – эти формулы безвозвратности я слышал в детстве так часто, и они долгое время представлялись мне могильными плитами, которые не сдвинешь с места. Портретные фотографии мужчин в военной форме, иногда с черным флером, прикрепленным к серебряной рамочке, которые я видел в домах моих школьных товарищей, вызывали во мне такое же болезненное впечатление, как и маленькие фотографии покойников, которые в некоторых странах помещают на могильном камне. Люди словно бы не хотят оставлять мертвецов в покое, вытаскивают их на свет, даже в смерти требуя от них военной выправки. Если для вдов это единственный способ зримо поминать своих мертвых мужей, то уж лучше бы они, как моя мама, отказались от этой зримой памяти.
Как бы ни далеко от меня был мой умерший отец, одно нас с ним все-таки связывало. Бабушка рассказала мне однажды, что отец любил стихи и что самой его любимой была баллада Теодора Фонтане «Джон Мейнард». В тот же вечер я заучил ее наизусть. Бабушке это понравилось, и многие годы подряд она то об одном, то о другом стихотворении говорила, что его любил мой отец, и я сразу учил это стихотворение наизусть. Быть может, она, знавшая наизусть много стихов, просто одобрительно относилась к тому, что я по вечерам учил стихи?
8
После ужина бабушка и дедушка убирали со стола, мыли посуду, поливали цветы в саду, а потом принимались за работу – они редактировали серию «Романы для удовольствия и приятного развлечения». Они садились за обеденный стол, опускали пониже лампу, висевшую под потолком, и принимались читать и править рукописи, длинные полосы гранок и сверстанные книги, сложенные по формату журнальной тетрадки. Иногда они сами садились писать; они настояли на том, чтобы в конце каждого выпуска серии помещалась краткая поучительная и познавательная статья, и, если таковой не было, сами ее сочиняли: о важности чистки зубов, о борьбе с храпом, о разведении пчел, о развитии почтового дела, о регулировании течения реки Линт Конрадом Эшером, о последних днях Ульриха фон Гуттена[3 - Ульрих фон Гуттен (1488–1523) – немецкий писатель-гуманист, видный деятель Реформации; после провала антипапского восстания бежал в Швейцарию, где вскоре умер; последние дни провел в убежище на острове Уфенау на Цюрихском озере.]. Они порой и романы переписывали, если считали, что какой-то пассаж написан беспомощно и выглядит неубедительно или непристойно, или же если им в голову приходила более удачная мысль. Издатель предоставил им полную свободу. Когда я сделался постарше и меня перестали укладывать в постель сразу после того, как пропоет дрозд, дед разрешал мне посидеть с ними за одним столом. Мы сидели в световом кругу лампы, низко опущенной над светлой столешницей, огромная комната тонула в полумраке. Мне нравилась эта атмосфера, я чувствовал себя уютно. Я что-нибудь читал или учил наизусть стихотворение, писал письмо маме или делал записи в моем каникулярном дневнике. Если я обращался к дедушке и бабушке с вопросом, отвлекая их от работы, они всегда терпеливо отвечали. И все же я не смел надоедать им, я видел, насколько они поглощены работой. Они обменивались друг с другом скупыми репликами, и я с моими расспросами чувствовал себя пустомелей. Вот я и читал, учил стихи и писал, не нарушая тишины. Иногда я осторожно, чтобы они не заметили, поднимал голову и глядел на них: на деда, карие глаза которого были очень внимательны, когда он работал, но могли и отрешенно смотреть вдаль, и на бабушку, которая все делала с необычайной легкостью, читала с улыбкой, писала и правила рукописи легкой и быстрой рукой. А между тем работа ей, наверное, давалась тяжелее, чем деду; он любил книги по истории, а к романам, которые они редактировали, относился деловито и отчужденно, она же любила литературу, любила романы и стихи, обладала непогрешимым литературным вкусом и, должно быть, страдала оттого, что ей приходилось иметь дело с банальными поделками.
Мне эти романы читать не позволялось. Время от времени, когда они обсуждали какую-нибудь книгу, во мне просыпалось любопытство. На мои расспросы они отвечали, что роман этот мне вовсе читать не надо: предмет, о котором в нем идет речь, гораздо лучше изложен в романе или новелле Конрада Фердинанда Мейера, или Готфрида Келлера, или какого-нибудь другого классика. Бабушка вставала из-за стола и приносила мне эту самую «гораздо лучшую» книгу.
Вручая мне при отъезде лишние сверстанные экземпляры, которые могли пригодиться дома для черновиков, они строго-настрого наказывали мне не читать, что там написано. Лучше бы уж они мне вообще ничего не давали! Однако бумага тогда стоила дорого, а мама зарабатывала мало. Поэтому долгие школьные годы все, что не нужно было сдавать учителям на проверку, я записывал на чистой стороне «оборотки»: латинские, английские и греческие слова, задачки по арифметике и геометрии, черновики сочинений, изложений и описаний картин, названия столиц, рек и гор, исторические даты, послания, адресованные соученикам и соученицам, сидящим несколькими партами дальше. Бумага для сверстанных романных тетрадок была прочная, а сами тетрадки были почти в сантиметр толщиной; я одну за другой отрывал исписанные страницы, тетрадки становились тоньше и тоньше, однако скрепки по-прежнему удерживали на сгибе клочья бумаги, остававшиеся от вырванных листов. Мне нравятся толстые тетради с листами из плотной бумаги. И поскольку я был послушный ребенок, я много лет подряд держал обещание и не читал того, что было написано на обороте.
9
Поначалу дедушка и бабушка считали, что летняя жизнь у них для меня слишком одинока, и они пытались познакомить меня с детьми моего возраста. Они знали своих соседей, переговорили с несколькими семьями и в конце концов достигли того, что меня стали приглашать на дни рождения, загородные экскурсии и в совместные походы в купальню. Я видел, как они старались ради меня, добиваясь этих приглашений, и не решался их отклонять. Однако я каждый раз радовался, когда общение со сверстниками кончалось и я снова оказывался дома у дедушки с бабушкой.
Порой я не понимал местных детей, говоривших на здешнем диалекте. Я не понимал с полуслова, о чем они говорят. Вся система школьного обучения, все их школьные дела и внешкольные развлечения, вся их социальная организация – все это было совершенно иным, чем у меня на родине. Они возвращались домой не сразу после уроков, а после организованных школой спортивных мероприятий, после спевки в хоре или театральных репетиций, возвращались только в четыре или в пять часов, а я после школы вместе со своими товарищами всю вторую половину дня был предоставлен сам себе. И хотя наши уличные шайки и войны, которые мы между собой вели, были совершенно безобидными, они никак не подготовили меня к добропорядочным играм благовоспитанных швейцарских детей.
Даже в купальне они вели себя не так, как мы. В воде никто не устраивал потасовок, никого не сталкивали в воду, не окунали в нее с головой. Девочки и мальчики вместе и на равных правах играли в водное поло, играли ловко и по правилам. Купальня представляла собой деревянную конструкцию, уходящую с берега в озеро; деревянная клеть размером двадцать метров на двадцать располагалась под водой, обеспечивая перепад глубины от метра до метра семидесяти, держалась она на сваях, с трех сторон ее обрамляли кабинки для переодевания и деревянные мостки, и в этой купальне барахтались те, кто не умел плавать; с четвертой стороны купальня была открыта к озеру, и, чтобы заплыть в него, нужно было поднырнуть под канат. Как-то раз, стараясь произвести впечатление на швейцарских детишек, я из чистого социального протеста взобрался на крышу самой дальней кабинки для переодевания и спрыгнул прямо в озеро.
Возможно, эти встречи и общение могли бы перерасти в приятельские отношения и дружбу, если бы мы виделись почаще. Однако почти сразу после того, как я приезжал к дедушке и бабушке, швейцарских детей распускали на каникулы, а бывало так, что они уезжали еще раньше и возвращались незадолго до моего отъезда. С одним мальчиком я сошелся поближе на почве общего интереса к полярным экспедициям. Нас интересовало, был ли Кук обманщиком, а Пири – дилетантом, был ли Скотт великим человеком, или безумцем, или тем и другим вместе, двигало ли Амундсеном голое тщеславие, или он выполнял миссию. Отцу моего приятеля я, кажется, тоже понравился.
«У тебя глаза как у твоего отца», – сказал он мне, увидев меня в первый раз. Он произнес это с дружелюбной и печальной улыбкой, которая смутила меня больше, чем его слова. Однако вопреки всем благим намерениям, которые были у меня и у этого мальчика, нам так и не удалось наладить друг с другом переписку.
Так вот и получилось, что на каникулах у меня не было товарищей моего возраста, с которыми я мог бы играть. И я снова совершал все те же прогулки к озеру, пешие походы к ущелью, к дальнему пруду и на возвышенности, с которых открывался вид на озеро и на Альпы. Я снова совершал все те же вылазки в замок в Рапперсвиле, на остров Уфенау, в большой монастырь, в музеи и в картинную галерею. Регулярные пешие походы и вылазки были такой же неотъемлемой частью каникул, как и работа в саду. Собирать яблоки, ягоды, салат и овощи, мотыжить грядки, полоть сорняки, срезать увядшие цветы, подстригать живую изгородь, стричь траву, укладывать компост, заполнять лейки водой и поливать огород и цветы – все эти работы повторялись по заведенному порядку, поэтому порядок всех других занятий мне представлялся естественным. К естественному ритму каникул относились и похожие один на другой вечера за столом под лампой.
Другие электронные книги автора Бернхард Шлинк
Другие аудиокниги автора Бернхард Шлинк
Чтец




 0
0