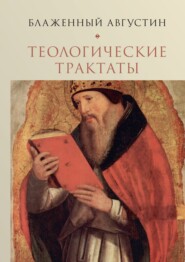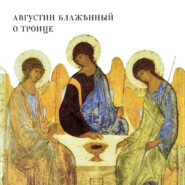По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 6
Что же я, окаянный, полюбил в тебе, о постыдное воровство мое, о гнусный поступок мой, совершенный мною ночью на шестнадцатом году моей жизни? Как воровство, ты ничего не представляло собою привлекательного; не было ли в тебе какой-нибудь особенной тайной прелести, заслуживающей упоминания? Прекрасны были плоды, которые мы воровали, потому что они были творение Твое, Источник всякой красоты и Творец всего, Боже благой, Боже – высочайшее благо, истинное благо мое: прекрасны были эти плоды; но не они были привлекательны для окаянной души моей. У меня было много своих гораздо лучших плодов, а чужие рвал я только для того, чтобы нарвать и, нарвав, выбросил их, наслаждаясь затем одним беззаконием, которым досыта восхищался. Если же и отведал их, то само воровство служило им приправой и делало их для меня вкуснее. И теперь, Господи Боже мой, я доискиваюсь того, какое удовольствие я мог находить в этом воровстве; ищу и ничего не нахожу. Не говорю уже о том наслаждении, какое мы находим в мудрости и справедливости, тут не было ничего приятного ни для мысли, ни для воспоминания, ни для чувств, ни для физической жизни; не было тут ни привлекательности для взоров, какою очаровывает нас красота светил на тверди небесной или земля и море со всеми их взаимно сменяющими друг друга явлениями; не было тут и той обманчивой и приятной прелести, какая свойственна порокам.
Так и гордость стремится к высоте, подражая Тебе, Боже; ибо Ты один – над всем и превыше всего. И честолюбие чего домогается, как не почестей и славы, так как Ты один досточтимый перед всем и препрославленный во веки? И суровая строгость властей требует, чтобы их боялись; кого же более всего надлежит боятяся, как не одного Бога, из-под власти Коего никто и ничто не может быть изъято ни в каком случае? И ласки влюбленных ждут взаимности, но ничего нет и не может быть выше Твоей любви, и с другой стороны, ничего не может быть и нет спасительнее, как любить Твою истину, всякий ум превосходящую, и Твою благость, ни с чем несравнимую. И любопытство как будто сходно с любознательностью и жаждет все постигнуть, тогда как перед Твоим всеведением ничто от Тебя не сокрыто. Даже неведение и юродство являются в виде простоты и невинности; а что прямее и непритворнее Тебя, или что незлобивее и неповиннее Тебя, тогда как коварство и злоба, по суду Твоему, сами себе враждебны и сами в себе носят наказание? И праздность как бы покоя и мира ищет; какой же покой и какой мир вернее и надежнее, как не в Тебе, Господи? Роскошь любит окружать себя обилием во всем и ни в чем не видеть недостатка; а в Тебе совершенная полнота и совершенное довольство. Расточительность прикрывается щедростью; но Податель всех благ щедродаровитейший – Ты. Скупость желает всем завладеть; и Ты владеешь всем. Зависть соревнует превосходству; а что превосходнее Тебя? Гнев ищет мщения; чья же месть правосуднее Твоей? Страх тревожит нас при всякой неожиданности и внезапности ударов, направленных на то, что мы любим, заставляя нас остерегаться опасностей и заботиться о безопасности; у Тебя же какая неожиданность, какая внезапность? Или кто отнимает у Тебя то, что Ты любишь? Или где, если не у Тебя, самая верная безопасность? Печаль сокрушает нас при потере тех предметов, в которых мы привыкли находить удовольствие; не от того ли это, что и нам не хотелось бы испытывать никаких потерь, подобно тому, как и Ты их не испытываешь?
Так любодействует душа человеческая, отвращаясь от Тебя, ища вне Тебя того, что в совершенной чистоте может быть найдено только по возвращении к Тебе. Превратно подражают Тебе все уклонявшиеся от Тебя и возносящиеся перед Тобою. Но подражая Тебе и таким образом, они тем самым свидетельствуют, что Ты – Творец всякой твари, и потому ничто не может стать вне всякого отношения к Тебе. Итак, что же мне нравилось в воровстве? И в чем я подражал при этом Господу моему, хотя погрешительно и превратно? Быть может, мне хотелось нарушать закон по крайней мере хитростью, если нельзя было силою, быть может, подобно пленнику, я являл вид ложной свободы, безнаказанно совершая то, что не было позволено, – как бы с каким-то призрачным всемогуществом. Я был тот раб, который бежит от Господа своего и гоняется за тенью. О растление, о чудовищность и уродливость жизни, о глубина смерти! Возможно ли позволять себе то, что не дозволено, ради того только, что это не дозволено?
Глава 7
Что воздам я Господу за то, что душа моя не приходит в ужас и трепет при всех этих воспоминаниях? Возлюблю Тебя, Господи, и возблагодарю, и исповедаюсь имени Твоему за то, что Ты простил мне столько злых и беззаконных дел моих. По благодати Своей и милосердию Своему Ты разрешил меня от грехов моих, так что они не существуют уже для меня. По благодати Своей Ты сохранил меня и от многих других прегрешений, которым остался я непричастен; ибо чего я не мог бы сделать, полюбив зло, для одного зла, без всяких даже сторонних побуждений? И все это, говорю я, прощено мне, и то, что я согрешал по своей воле, и то, до чего Ты не допустил меня. И кто из нас смертных, проникнутый сознанием своих слабостей и своего безумия, осмелится приписывать своим силам свою чистоту, непорочность, свою праведность, с тем, чтобы через то иметь менее побуждения любить Тебя, как бы менее необходимым для нас становилось тогда милосердие Твое, в силу которого прощаешь Ты грехи обратившимся к Тебе и оправдываешь их перед Собою правдою Своею? Даже и тот, кто по зову Твоему, последовав Твоему гласу, избежал всего того, что прочтет обо мне в этой исповеди моей, даже и тот человек не может не признать, что Тот же врач, Который исцелил меня больного, предохранил и его от всякой болезни, или, вернее, от многих болезней, и потому самому столько же, да еще и более, возлюбит Тебя, видя, что Тот, Кто освободил меня от таких тяжестей греховных, Тот Самый не допустил и его до испытания таковых тяжестей.
Глава 8
И какую пользу принесли мне, достойному сожаления, те поступки, воспоминание о которых заставляет меня краснеть, в особенности то воровство, в котором я полюбил само воровство? Именно – воровство, и ничего более, так как и само оно в себе есть ничто, и потому самому достойнее сожаления. И однако же один я не совершил бы воровства; так по крайней мере уверяет меня мое воспоминание; да, один я никогда не сделал бы этого. Стало быть, мне приятно было в этом деле и сообщество участников в воровстве. Мне нравилось не столько само воровство, сколько нечто иное; именно – нечто иное, потому что воровство само в себе – ничто
. Что же в самом деле правильнее и вернее? И кто вразумит меня, если не Тот, Кто озаряет светом Своим сердце мое и разгоняет тьму его? И что навело меня на мысль – предаться размышлению об этом, задавать себе вопросы и искать решения их? Если бы я в то время любил плоды, которые воровал, и желал насладиться ими, то я мог бы и один совершить такое беззаконие, для достижения своего личного удовольствия, без участия и возбуждения сообщников. Но так как я не находил в этих плодах удовольствия для себя, то все удовольствие мое заключалось во взаимном сообществе и одобрении участников преступления.
Глава 9
Что это было за расположение души? Конечно, оно было в высшей степени достойно осуждения; и горе мне было, что я имел его. Но что же однако это было? Грехопадения свои кто разумеет? (см. Пс. 18, 13)? Мы смеялись и в душе радовались тому, что обманывали тех, которые не считали нас такими проказниками и вовсе не желали видеть в нас каких-либо пороков. От чего же впрочем находил я удовольствие в совершении воровства не одному, а в товариществе? Не от того ли, что одному не так удобно и не так охотно вдоволь посмеяться? Правда, что одному себе смеяться не приходится; бывают однако с нами случаи, что мы и наедине, когда вовсе никого с нами не бывает, иногда не можем удержаться от смеха, и это бывает с нами тогда, когда что-нибудь представляется или чувствам или душе чрезвычайно смешным. Но я все-таки не решился бы один на воровство и всеконечно не произвел бы его один. Свидетелем тому перед Тобою, Боже мой, служит живое воспоминание души моей. Один я не совершил бы этого воровства, в котором источник удовольствия был не предмет, а само действие воровства; не сделал бы, говорю, потому что во мне вовсе не было к тому желания, и я не сделал бы его один. О пагубное товарищество, о необъяснимое увлечение ума и непонятное обольщение сердца – желание вредить и причинять урон другому из-за одних шуток и забав, без всякой собственной пользы и без всякого побуждения к какой-либо мести, а просто-напросто, как говорится: пойдем, подебоширим; и стыдно становится не быть бесстыдным.
Глава 10
И кто распутает все эти узлы, все эти извилины, все эти запутанности путей неправды и беззакония, так трудных к разгадке? Отвратительны они; и я не хочу более углубляться в них, не хочу более останавливать на них взора своего. К Тебе стремлюсь и Тебя жажду, Правда и Святость Вечная, в благолепнейшей красоте чистейшей светлости и неисчерпаемого довольства. Покой у Тебя ничем не возмутим, и жизнь у Тебя безмятежна. Кто входит в дом Твой, тот входит в радость Господа своего (Мф. 22, 21, 23), и тогда нечего ему уже бояться, и благо ему будет у Благого. Уклонился я от путей Твоих и пошел по распутиям, Боже мой; отошел от Тебя в страну далече, подобно евангельскому юноше блудному, и блуждал там вдали от Тебя в юности моей; оставив дом отеческий, я скитался в стране отчуждения и лишения (см. Лк. 14, 11–32).
Книга третья
Воспоминание о семнадцатом, восемнадцатом и девятнацатом годах того же возраста (юношеского), проведенных в Карфагене, где, доканчивая свое образование, Августин увлекся в дела лобострастия и впал в ересь манихеев. – Ясный взгляд Августина на погрешности и нелепости манихеев. – Матерние о нем слезы и свыше последовавший ответ о его обращении.
Глава 1
Я прибыл в Карфаген; и стали обуревать меня пагубные страсти преступной любви.
Еще не предавался я этой любви, но она уже гнездилась во мне, и я не любил открытых к тому путей. Я искал предметов любви, потому что любил любить; прямой и законный путь любви был мне противен. У меня был внутренний глад пиши духовной, – Тебя Самого, Боже мой; но я томился не тем гладом, алкал не этой пищи нетленной: не оттого, чтобы не имел в ней нужды, – но по причине своей крайней пагубной суетности. Больна была душа моя, и, покрытая струнами, она жалким образом устремилась к внешнему миру в надежде утолить жгучую боль при соприкосновении с чувственными предметами. Но если бы эти предметы не имели души, они могли бы быть любимы. Любить и быть любиму было для меня приятно, особенно если к этому присоединялось и чувственное наслаждение. Животворное чувство любви я осквернял нечистотами похоти, к ясному блеску любви я примешивал адский огонь сладострастия, и несмотря на такое бесчестие и позор, я гордился и восхищался этим, в оспеплении суетности представляя себя человеком изящным и светским. Словом, я пустился стремглав в любовные похождения, которых так жаждал, и совершенно был пленен ими. Милосердный Боже мой! Какою горькою и вместе спасительною желчью растворял Ты для меня эти пагубные удовольствия мои! Чего я не испытал? Я испытал и любовь и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед затем и подозрение, и страх, и гнев и ссору, и жгучие розги ревности.
Глава 2
Меня увлекали еще театральные зрелища, полные картинами из моей бедственной жизни и горючими материалами, разжигавшими пламень страстей моих; и театр сделался любимым местом моих удовольствий, а обольщение – мнимою потребностью души и сердца. Что это значит, что человек любит сочувствовать представляемым в театре печальным и трагическим событиям, тогда как сам не желал бы терпеть их? И при всем том зритель выражает свое участие в этой скорби, и сама скорбь доставляет ему удовольствие. Не жалкое ли это сумасбродство? Конечно, всего более трогается чужими скорбями тот, кто сам испытывал подобные скорби; и тогда как собственные действия обыкновенно называются состраданием, сочувствие к чужим бедствиям называется состраданием. Но, скажите, пожалуйста, какое же может быть сострадание по отношению к действиям вымышленным – сценическим? Зритель нисколько не вызывается здесь ни помочь, а только сочувствует, и тем лучше для актера, чем более возбуждает он соболезнования в зрителе; если при представлении несчастий или неудач давноминувших или вымышленных зритель не чувствует соболезнования, то уходит из театра с ропотом и неудовольствием; если же зритель тронут, то со вниманием и радостью проливает слезы.
Стало быть, мы любим и скорби и слезы. Правда, всякий человек скорее желает радоваться, нежели плакать. Но если никому не хочется страдать, то быть может желательно бывает по крайней мере сострадать? И так как сострадание не обходится без скорби, то по этой-то самой причине любим мы и скорби; отсюда-то и проистекает жизненное начало дружества. Но к чему ведет, к чему клонится такое сострадание? Неужели оно должно исчезнуть в этом кипучем потоке бурных страстей, куда низвергается самопроизвольно, уклоняясь и отвращаясь от света небесного? Неужели же отвергнуть сострадание? Вовсе нет. Мы можем и должны иногда любить скорби. Но берегись сочувствовать худому, душа моя, находящаяся под покровом Бога своего, Бога отцов наших, и препетаго, и превозносимого во веки (Дан. 3, 52–56), берегись сочувствовать худому. Я и теперь сострадаю, но не так, как тогда я в театрах сочувствовал восторгам влюбленных, когда они утопали в позорных наслаждениях; а когда они разлучались или теряли друг друга, то из сострадания к ним сам печалился и сокрушался; и в том и в другом случае я находил удовольствие, хотя все это была одна мечта и выдумка театральная. Ныне же я более сострадаю и соболезную о том, кто полагает свое наслаждение в порочной жизни, нежели о том, кто терпит как бы удары от лишения пагубных удовольствий и от потери мнимого и жалкого счастья. Такое сострадание, конечно, истиннее и справедливее; но оно не доставляет удовольствий, подобно состраданию, испытываемому на театральных зрелищах. Хотя человек, сострадающий несчастью ближнего, конечно, заслуживает похвалы за свое любвеобилие; но в глубине души, по чувству истинного милосердия, он, без сомнения, желал бы, чтобы вовсе не было предметов для его сострадания. Если бы существовала злобная благость (что немыслимо), то в таком только случае и можно было бы представить себе, что существо истинно сострадательное может желать несчастных существ, как предметов для своего сострадания. Итак, есть скорбь достойная похвалы, но нет скорби достойной любви. Только Ты, Господи Боже, любишь души наши и сострадаешь им несравненно чище, выше, святее, чем мы, потому что Тебя не тревожит никакая скорбь, никакая печаль. Но кто может возвыситься до этого?
А я, несчастный, любил тогда печалиться и скорбеть, искал предметов, возбуждавших таковые чувства, и при виде чужих бедствий, вымышленных и фальшивых, мне всего более нравились те действия актеров, которые извлекали у меня слезы. И что удивительного, если я – несчастная, заблудшая овца, отбившаяся от стада Твоего и уклонившаяся от Твоего надзора, бросался куда ни попало? При этом постигали меня те любовные печали, которые впрочем неглубоко потрясали меня, потому что я не желал испытывать на деле таких приключений, на какие любил засматриваться в театре; театральные представления только поверхностно, так сказать, чесали мой слух и мое вообрашение, а затем, как и после царапания ногтями, само собою следовало воспаление опухолей, гниение и страшное разложение. И что это за жизнь моя была, Боже мой?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: