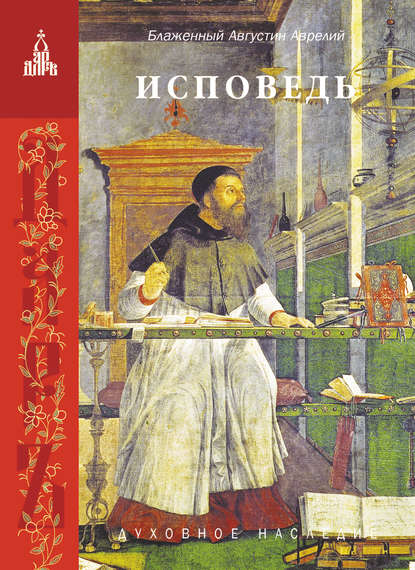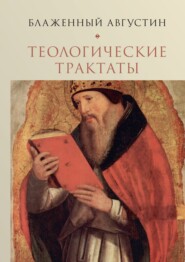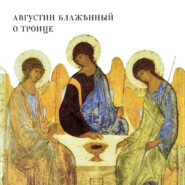По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
X
18. Не зная этого, я смеялся над этими святыми слугами и пророками Твоими. К чему привел этот смех? Только к тому, что Ты насмеялся надо мной: постепенно и потихоньку меня довели до абсурдной веры[6 - Манихеев.], например, в то, что винная ягода, когда ее срывают, и дерево, с которого она сорвана, плачут слезами, похожими на молоко. Если какой-то «святой» съест эту винную ягоду, сорванную, конечно, не им самим, а чужой преступной рукой, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, вздыхая и рыгая, Ангелов или, вернее, частички Божества: эти частички истинного и вышнего Божества так и остались бы заключенными в винной ягоде, если бы «святые избранники» не освободили их зубами и кишками.
И я, жалкий, верил, что надо быть жалостливее к земным плодам, чем к людям, для которых они растут. И если бы голодный – не манихей – попросил есть, то, пожалуй, за каждый кусок стоило бы наказывать смертной казнью.
XI
19. И Ты простер руку Твою с высоты и извлек душу мою (ср. Пс. 143, 7) из этого глубокого мрака, когда мать моя, верная Твоя служанка, оплакивала меня перед Тобою больше, чем оплакивают матери умерших детей. Она видела мою смерть в силу своей веры и того духа, которым обладала от Тебя, – и Ты услышал ее, Господи. Ты услышал ее и не презрел слез, потоками орошавших землю в каждом месте, где она молилась; Ты услышал ее. Откуда, в самом деле, был тот сон, которым Ты утешил ее настолько, что она согласилась жить со мною в одном доме и сидеть за одним столом? В этом ведь было мне отказано из отвращения и ненависти к моему кощунственному заблуждению. Ей приснилось, что она стоит на какой-то деревянной доске и к ней подходит сияющий юноша, весело ей улыбаясь; она же в печали и сокрушена печалью. Он спрашивает ее о причинах горести и ежедневных слез, причем с таким видом, будто хочет не разузнать об этом, а наставить ее. Она отвечает, что скорбит над моей гибелью, он же велел ей успокоиться и посоветовал внимательно посмотреть: она увидит, что я буду там же, где и она. Она посмотрела и увидела, что я стою рядом с нею на той же самой доске.
Откуда этот сон? Разве Ты не преклонил слуха Своего к сердцу ее? О Ты, Благий и Всемогущий, Который заботишься о каждом из нас так, словно он является единственным предметом Твоей заботы, и обо всех так, как о каждом!
20. Почему, когда она рассказала мне это видение и я попытался притянуть свое объяснение: скорее ей нечего отчаиваться в том, что она будет там же, где был я, она ответила сразу же безо всякого колебания: «Нет, мне ведь не было сказано “где он, там и ты”, а “где ты, там и он”».
Исповедуюсь Тебе, Господи, насколько я могу припомнить (а я часто вспоминал и рассказывал об этом сне) этот ответ Твой через мою неусыпно заботливую мать, то, что она не смутилась моим лживым, но столь вероятным объяснением и сразу увидела то, что надо было увидеть, и чего я, разумеется, не видел до ее слов, – все это потрясло меня даже больше, чем сам сон, в котором благочестивой женщине задолго вперед предсказана была будущая радость в утешение нынешней скорби. Прошло еще десять лет, в течение которых я валялся в этой грязной бездне и во мраке лжи; часто пытался я встать и разбивался еще сильнее, а между тем эта чистая вдова, благочестивая и скромная, такая, каких Ты любишь, ободренная надеждой, но неумолчная в своем плаче и стенаниях, продолжала в часы всех своих молитв горевать обо мне перед Тобой, Господи, и пришли пред лицо Твое молитвы ее (Пс. 87, 3), хотя Ты и допустил еще, чтобы меня кружило и закружило в этой мгле.
XII
21. Ты дал тем временем и другой ответ, который я держу в памяти. Многое я пропускаю, потому что тороплюсь перейти к тому, что настоятельно требует исповеди перед Тобой, а многого я и не помню. Другой ответ Свой дал Ты через Твоего священнослужителя, одного епископа, вскормленного Церковью и начитанного в книгах Твоих. Когда мать моя упрашивала его удостоить меня своей беседы, опровергнуть мои заблуждения, отучить от зла и научить добру (он поступал так с людьми, которых находил достойными), то он отказался, что было, насколько я сообразил впоследствии, конечно, разумно. Он ответил, что я заупрямлюсь, потому что ересь для меня внове, я горжусь ею и уже смутил многих неопытных людей некоторыми пустячными вопросами, как она сама ему рассказала. «Оставь его там и только молись за него Богу: он сам, читая, откроет, какое это заблуждение и какое великое нечестие». И он тут же рассказал, что его мать соблазнили манихеи и она еще мальчиком отдала его им; что он не только прочел все их книги, но даже их переписывал и что ему открылось, безо всяких обсуждений и уговоров, как надо бежать от этой секты; и он бежал.
Когда он рассказал об этом, мать моя все-таки не успокоилась и продолжала еще больше настаивать, моля и обливаясь слезами, чтобы он увиделся со мной и поговорил. Тогда он с некоторым раздражением и досадой сказал: «Ступай: как верно, что ты живешь, так верно и то, что сын таких слез не погибнет».
В разговорах со мной она часто вспоминала, что приняла эти слова так, как будто они прозвучали ей с неба.
Книга четвертая
I
1. В течение этих девяти лет, от девятнадцатого до двадцать восьмого года жизни моей, я жил в заблуждении и вводил в заблуждение других, обманывался и обманывал разными увлечениями своими: открыто – обучением, которое зовется «свободным»[7 - Цикл «свободных наук» включал для Августина грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, теорию музыки, астрономию.], втайне – тем, что носило обманное имя религии. Там была гордость, здесь – суеверие, и всюду – пустота. Там я гнался за пустой известностью, за рукоплесканиями в театре на стихотворных состязаниях в борьбе ради венков из травы, там увлекался бессмысленными зрелищами и безудержным разгулом; тут, стремясь очиститься от этой грязи, подносил так называемым святым и избранным пищу, из которой они в собственном брюхе мастерили ангелов и богов для нашего освобождения. И я был ревностным последователем всего этого и соответственно действовал с друзьями своими, совместно со мною и через меня обманутыми.
Пусть смеются надо мной гордецы, которых Ты еще не поверг ниц и не поразил ради спасения их, Боже мой, я все равно исповедую позор мой во славу Твою. Позволь мне, молю Тебя, дай покружить сейчас памятью по всем кружным дорогам заблуждения моего, исхоженным мною, и принести Тебе жертву хвалы (Пс. 49, 14). Что я без Тебя, как не вожак себе в пропасть? Что я такое, когда мне хорошо, как не младенец, сосущий молоко Твое и питающийся Тобой – пищей, пребывающей вовек (ср. Ин. 6, 27, Пс. 8, 3, 1 Кор. 3, 1–2)? И что такое человек, любой человек, раз он человек? Пусть же смеются над нами сильные и могущественные, мы же, нищие и убогие, будем исповедоваться пред Тобой.
II
2. В эти годы я преподавал риторику и, побежденный жадностью, продавал победоносную болтливость. Я предпочитал, Ты знаешь это, Господи, иметь хороших учеников в том значении слова, в котором к ним прилагается «хороший», и бесхитростно учил их хитростям не затем, чтобы они губили невинного, но чтобы порой вызволяли виновного. Боже, Ты видел издали, что я едва держался на ногах на этой скользкой дороге, и в клубах дыма чуть мерцала честность моя, с которой во время учительства своего обучал я любящих суету и ищущих обмана, я, сам их союзник и товарищ.
В эти годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным: я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях. Все-таки она была одна, и я сохранял верность даже этому ложу. Тут я на собственном опыте мог убедиться, какая разница существует между спокойным брачным союзом, заключенным только ради деторождения, и страстной любовной связью, при которой даже дитя рождается против желания, хотя, родившись, и заставляет себя любить.
3. Вспоминаю еще, что однажды я решил выступить на состязании драматических поэтов. Какой-то гаруспик[8 - Колдун, чародей.] поручил спросить меня, сколько я заплачу ему за победу, и я ответил, что это мерзкое колдовство мне ненавистно и отвратительно, и что если бы меня ожидал даже венец из нетленного золота, то я не позволю ради своей победы убить муху. А он как раз и собирался убить и принести в жертву животных, рассчитывая, по-видимому, этими почестями склонить ко мне демонов. Я отверг это зло потому, что чтил святость Твою, Боже сердца моего. Я не умел ведь любить Тебя, только в телесной славе умел я представить Тебя. Душа, вздыхающая по таким выдумкам, разве не распутничает вдали от Тебя (ср. Пс. 72, 27)? Она верит лжи и питает ветры (ср. Ос. 12, 1). Я, конечно, не хотел, чтобы за меня приносили жертву демонам, которым я сам приносил себя в жертву своим суеверием. И что значит «питать ветры», как не питать этих духов, то есть свои заблуждения, услаждать их и быть им потехой?
Ill
4. Продолжал я советоваться и с этими проходимцами (их называют «математиками»[9 - Во времена блж. Августина математиками называли астрологов, звездочетов.]), ссылаясь на то, что они не приносят никаких жертв и не обращаются ни к одному духу с молитвами о своих предсказаниях. Тем не менее христианское, настоящее благочестие отвергает и вполне последовательно осуждает их деятельность.
Хорошо исповедоваться Тебе, Господи, и говорить: Помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил пред Тобою (Пс. 40, 5). Хорошо не злоупотреблять снисхождением Твоим, позволяя себе грешить, и помнить слово Господне: Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже (Ин. 5,14). Это спасительное наставление они ведь пытаются целиком уничтожить, говоря: «Небом суждено тебе неизбежно согрешить», или: «Это сделали Венера, или Сатурн, или Марс». Следовательно, если на человеке, на этой плоти, крови, на гордой трухе, вины нет, то винить следует Творца и Устроителя неба и светил. А кто же это, как не Ты, Господь наш, сладостный исток справедливости, Который воздаст каждому по делам его (Мф. 16, 27) и сердца сокрушенного и смиренного не уничижит (Пс. 50, 19).
5. Жил в это время человек острого ума, очень опытный и известный в своем деле врач[10 - Августин говорит о Вин дициане, главном городском враче Карфагена, медицинской знаменитости того времени.], который, в качестве проконсула, своей рукой возложил в том состязании венец победителя на мою больную голову; тут он врачом не оказался. В такой болезни целитель Ты, Который гордым противишься, а смиренным даешь благодать (cp. 1 Пет. 5, 5). И разве не Ты помог мне через этого старика? Разве Ты оставил лечить душу мою? Я ближе познакомился с ним и стал его прилежным и постоянным собеседником (речь его, оживленная мыслью, была безыскусственной, но приятной и важной). Узнав из разговора со мной, что я увлекаюсь книгами астрологов, он с отеческой лаской стал уговаривать меня бросить их и не тратить зря на эти пустяки трудов и забот, нужных для полезного дела. Он рассказал мне, что настолько изучил эту науку, что в юности хотел сделать ее своим насущным занятием; раз он понял Гиппократа, то уж, конечно, смог понять и эти книги. Впоследствии, однако, он их бросил и занялся медициной единственно потому, что ясно увидел их совершенную лживость. Человек порядочный, он не захотел зарабатывать свой хлеб обманом.
«У тебя, – добавил он, – есть твоя риторика, которой ты можешь жить, этой же ложью ты занимаешься по доброй воле, а не по нужде и должен верить мне тем более, что я постарался изучить ее в совершенстве, желая ее сделать единственным источником заработка». Я спросил у него, по какой же причине многие их предсказания оказываются верны, и он ответил как мог, а именно, что это делается силой случая, всегда и всюду действующего в природе. Если человеку, который гадает по книге поэта, занятого только своей темой и ставящего себе свои цели, часто выпадает стих, изумительно соответствующий его делу, то можно ли удивляться, если человеческая душа по какому-то побуждению свыше, не отдавая себе отчета в том, что с ней происходит, изречет вовсе не по науке, а чисто случайно то, что согласуется с делами и обстоятельствами вопрошающего.
6. И тут Ты позаботился обо мне, действуя в нем и через него. В памяти моей Ты оставил набросок того, что впоследствии я должен был искать уже сам. Тогда же ни он, ни мой дорогой Небридий, юноша очень хороший и очень чистый, смеявшийся над предсказаниями такого рода, не могли убедить меня от них отказаться. На меня больше действовал авторитет авторов этих книг, и в своих поисках я не нашел еще ни одного верного доказательства, которое недвусмысленно выявило бы, что верные ответы на заданные вопросы продиктованы судьбой или случайностью, а не наукой о наблюдении за звездами.
IV
7. В эти годы, когда я только что начал преподавать в своем родном городе, я завел себе друга, которого общность наших вкусов делала мне очень дорогим. Был он мне ровесником и находился в том же цвету цветущей юности. Мальчиками мы росли вместе; вместе ходили в школу и вместе играли. Тогда мы еще не были так дружны, хотя и впоследствии тут не было истинной дружбы, потому что истинной она бывает только в том случае, если Ты скрепляешь ее между людьми, привязавшимися друг к другу любовью, излившейся в сердца наши Духом Святым, Который дан нам (ср. Рим. 5, 5). Тем не менее, созревшая в горячем увлечении одним и тем же, была она мне чрезвычайно сладостна. Я уклонил его от истинной веры – у него, юноши, она не была глубокой и настоящей, – к тем гибельным и суеверным сказкам, которые заставляли мать мою плакать надо мною. Вместе с моей заблудилась и его душа, а моя не могла уже обходиться без него.
И вот Ты, по пятам настигающий тех, кто бежит от Тебя, Бог отмщения и Источник милосердия, обращающий нас к Себе дивными способами, вот Ты взял его из этой жизни, когда едва исполнился год нашей дружбе, бывшей для меня сладостнее всего, что было сладостного в тогдашней моей жизни.
8. Может ли один человек возвестить все хвалы (Пс. 105, 2) за благодеяния Твои ему одному? Что сделал Ты тогда, Боже мой? Как неисследима бездна судеб Твоих (ср. Пс. 35, 7)! Страдая лихорадкой, он долго лежал без памяти в смертном поту. Так как в его выздоровлении отчаялись, то его окрестили в бессознательном состоянии. Я не обратил на это внимания, рассчитывая, что в душе его скорее удержится то, что он узнал от меня, чем то, что делали с его бессознательным телом. Случилось, однако, совсем по-иному. Он поправился и выздоровел, и как только я смог говорить с ним (а смог я сейчас же, как смог и он, потому что я не отходил от него, и мы не могли оторваться друг от друга), я начал было насмехаться над крещением, которое он принял вовсе без сознания и без памяти. Он уже знал, что принял его. Я рассчитывал, что и он посмеется вместе со мной, но он отшатнулся от меня в ужасе, как от врага, и с удивительной и внезапной независимостью сказал мне, что если я хочу быть ему другом, то не должен никогда говорить ему таких слов. Я, пораженный и смущенный, решил отложить свой натиск до тех пор, пока он оправится и сможет, вполне выздоровев, разговаривать со мной о чем угодно. Но через несколько дней, в мое отсутствие, он опять заболел лихорадкой и умер, отнятый у меня, безумного, чтобы жить у Тебя на утешение мне.
9. Какой печалью омрачилось сердце мое! Куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом – обителью беспросветного горя, все, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку. Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел все, потому что нигде его нет и никто уже не мог мне сказать: «Вот он придет», как говорили об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня (ср. Пс. 41, 6,12), и не знала она, что ответить мне. И если я говорил: «надейся на Бога», она справедливо не слушалась меня, потому что человек, которого я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на которого ей велено было надеяться. Только плач был мне сладостен, и он наследовал другу моему в усладе души моей.
10. Теперь, Господи, это уже прошло и время залечило мою рану. Можно ли мне услышать от Тебя, Который есть Истина, можно ли преклонить ухо моего сердца к устам Твоим и узнать от Тебя, почему плач сладок несчастным? Разве Ты, хотя и всюду присутствуя, отбрасываешь прочь от Себя наше несчастье? Ты пребываешь в Себе, а мы кружимся в житейских испытаниях. И, однако, если бы плач наш не доходил до ушей Твоих, ничего не осталось бы от надежды нашей. Почему с жизненной горечи срываем мы сладкий плод стенания и плач, вздохи и жалобы? Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны Тобою? Это верно в отношении молитв, которые дышат желанием дойти до Тебя. Но в печали об утере и в той скорби, которая окутывала меня? Я ведь не надеялся, что он оживет, и не этого просил своими слезами, я только горевал и плакал, потерян я был и несчастен: потерял я радость свою. Или плач, горестный сам по себе, услаждает нас, пресытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались и что теперь внушает нам отвращение?
11. Зачем, однако, я говорю это? Сейчас время не спрашивать, а исповедоваться Тебе. Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно: она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще и до потери своей.
Таково было состояние мое в то время. Я горько плакал и находил успокоение в этой горечи. Так несчастен я был, и дороже моего друга оказалась для меня эта самая несчастная жизнь. Я, конечно, хотел бы ее изменить, но также не желал бы утратить ее, как и его. И я не знаю, захотел ли бы я умереть даже за него, как это рассказывают про Ореста и Пилада[11 - Орест и Пил ад – герои греческой мифологии, бывшие примером идеальной дружбы.], если это только не выдумка, что они хотели умереть вместе один за другого, потому что хуже смерти была для них жизни врозь. Во мне же родилось какое-то чувство, совершенно этому противоположное; было у меня и жестокое отвращение к жизни, и страх перед смертью. Я думаю, что чем больше я его любил, тем больше ненавидел я смерть и боялся, как лютого врага, ее, отнявшую его у меня. Вдруг, думал я, поглотит она и всех людей, – могла же она унести его.
В таком состоянии, помню, находился я. Вот сердце мое, Боже мой, вот оно – взгляни вовнутрь его, таким я его вспоминаю. Надежда моя, Ты, Который очищаешь меня от нечистоты таких привязанностей, устремляя глаза мои к Тебе и освобождая от силков ноги мои (ср. Пс. 24, 15). Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не мог умереть, был мертв, и еще больше удивлялся, что я, его второе «я», живу, когда он умер. Хорошо сказал кто-то о своем друге: «Половина души моей». И я чувствовал, что моя душа и его душа были одной душой в двух телах, и жизнь внушала мне ужас: ведь я не хотел жить половинной жизнью. Потому, может быть, и боялся умереть, чтобы совсем не умер тот, которого я так любил.
12. О, безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку! О, глупец, возмущающийся человеческой участью! Таким был я тогда: я бушевал, вздыхал, плакал, был в расстройстве, не было у меня ни покоя, ни рассуждения. Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей невтерпеж было со мной, а я не находил места, куда ее пристроить. Рощи с их прелестью, игры, пение, сады, дышавшие благоуханием, пышные пиры, ложе нег, самые книги и стихи – ничто не давало ей покоя. Все внушало ужас, даже дневной свет. Все, что не было им, было отвратительно и ненавистно. Только в слезах и стенаниях чуть-чуть отдыхала душа моя, но когда приходилось забирать ее оттуда, тяжким грузом ложилось на меня мое несчастье. К Тебе, Господи, надо было вознести ее и у Тебя лечить. Я знал это, но и не хотел и не мог, тем более что я не думал о Тебе как о чем-то прочном и верном. Не Ты ведь, а пустой призрак и мое заблуждение были моим богом. И если я пытался пристроить ее тут, чтобы она отдохнула, то она катилась в пустоте и опять обрушивалась на меня, и я оставался с собой: злосчастное место, где я не мог быть и откуда не мог уйти. Куда мое сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошел бы вслед за собой?
И все-таки я убежал из родного города. Меньше искали его глаза мои там, где не привыкли видеть, и я переехал из Тагасты в Карфаген.
VIII
13. Время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства, оно творит в душе удивительные дела. Дни приходили и уходили один за другим. Приходя и уходя, они бросали в меня семена других надежд и других воспоминаний, постепенно лечили старыми удовольствиями, и печаль моя стала уступать им. Стали, однако, наступать не другие печали, но причины для других печалей. Разве эта печаль так легко и глубоко проникла в самое сердце мое не потому, что я вылил душу свою в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти?
А меня как раз больше всего утешали и возвращали к жизни новые друзья, делившие со мной любовь к тому, что я любил вместо Тебя: нескончаемую сказку[12 - Так блж. Августин называет учение манихеев.], сплошной обман, своим нечистым прикосновением развращавший наши умы, зудевшие желанием слушать. И если бы умер кто-нибудь из моих друзей, эта сказка не умерла бы для меня.
Было и другое, что захватывало меня больше в этом дружеском общении: общая беседа и веселие, взаимная благожелательная услужливость, совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение, порою дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой, – самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное, – взаимное обучение, когда один учит другого и в свою очередь у него учится; тоскливое ожидание отсутствующих; радостная встреча прибывших. Все такие проявления любящих и любимых сердец, – в лице, в словах, в глазах и тысяче милых выражений, – как на огне, сплавляют между собою души, образуя из многих одну.
IX
14. Вот что мы любим в друзьях и любим так, что человек чувствует себя виноватым, если он не отвечает любовью на любовь. От друга требуют только выражения благожелательности. Отсюда эта печаль по случаю смерти, мрак скорби, сердце, упоенное горечью, в которую обратилась сладость; смерть живых, потому что утратили жизнь умершие.
Блажен, кто любит Тебя, в Тебе друга и ради Тебя врага. Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в Том, Кого нельзя потерять. А кто это, как не Бог наш, Бог, Который сотворил небо и землю (Быт. 1, 1) и наполняет их (ср. Иер. 23, 24), ибо, наполняя, Он и создал их. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто Тебя оставляет, а кто оставил, – куда пойдет и куда убежит? Только от Тебя, милостивого, к Тебе, гневному. Где не найдет он в каре, его достигшей, Твоего закона? А закон Твой – истина (Пс. 118, 142), и истина – это Ты (ср. Ин. 14, 6).
15. Боже сил! Восстанови нас, яви светлым лицо Твое, и спасемся (Пс. 79, 8). Куда бы ни обратилась человеческая душа, всюду, кроме Тебя, наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и на красоту, но красоту вне Тебя и вне себя самой. И красота эта ничто, если она не от Тебя. Прекрасное рождается и умирает, рождаясь, оно начинает как бы быть и растет, чтобы достичь полного расцвета, а расцветя, стареет и гибнет. Не всегда, правда, доживает до старости, но гибнет всегда. Родившись и стремясь быть, прекрасное чем скорее растет, утверждая свое бытие, тем сильнее торопится в небытие. Таков предел, положенный Тобою земным вещам, потому что они только части целого, существующие не одновременно; уходя и сменяя друг друга, они, как актеры, разыгрывают цельную пьесу, в которой им даны удельные роли. То же происходит и с нашей речью, состоящей из звуковых обозначений. Речь не будет целой, если каждое слово, отзвучав в своей роли, не исчезнет, чтобы уступить место другому.
Хвали, душа моя, Господа (Пс. 145, 1) за этот мир, «Господь – всего Создатель»[13 - Первая строфа вечернего церковного гимна свт. Амвросия Медиоланского.], но не прилипай к нему чувственной любовью, ибо он идет, куда и шел – к небытию, и терзает душу смертной тоской, потому что и сама она хочет быть и любит отдыхать на том, что она любит. А в этом мире негде отдохнуть, потому что все в нем безостановочно убегает. Как угнаться за этим плотскому чувству? Как удержать даже то, что сейчас под рукой? Медлительно плотское чувство, потому что оно плотское: ограниченность – его свойство. Оно удовлетворяет своему назначению, но его недостаточно, чтобы удержать то, что стремится от положенного начала к положенному концу. Ибо в Слове Твоем, Которым создан мир, слышит оно: «Отсель и досель».
XI
16. Не суетись, душа моя, не дай оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей. Слушай, Само Слово зовет тебя вернуться, безмятежный покой там, где Любовь не покинет тебя, если сам ты Ее не покинешь. Вот одни создания уходят, чтобы дать место другим, отдельные части в совокупности своей образуют этот дольний мир. «Разве Я могу уйти куда-нибудь?» – говорит Слово. Здесь утверди жилище свое, доверь все, что у тебя есть, душа моя, уставшая, наконец, от обманов. Доверь Истине все, что у тебя есть от Истины, и ты ничего не утратишь. Истлевшее у тебя покроется цветом, исцелятся все недуги твои, преходящее получит новый облик, обновится и соединится с тобой, оно не увлечет тебя в стремлении вниз, но недвижно останется с тобой и пребудет у вечно недвижного и пребывающего Бога (ср. Пс. 101, 13).
17. Зачем, развращенная, следуешь ты за плотью своей? Пусть она, обращенная, следует за тобой. Все, что ты узнаешь через нее, – частично. Ты не знаешь целого, которому принадлежат эти части, и все-таки они тебя радуют. Если бы твое плотское чувство способно было охватить все и не было бы оно, в наказание тебе, справедливо ограничено постижением только части, то ты пожелал бы, чтобы все, существующее сейчас, прошло, дабы ты больше мог наслаждаться целым. Ведь и речь нашу ты воспринимаешь тоже плотским чувством, и тебе, разумеется, захочется, чтобы отдельные слоги быстро произносились один за другим, а не застывали неподвижно: ты ведь хочешь услышать все целиком. Так и части, составляющие нечто единое, но возникающие не все одновременно в том, что они составляют: все вместе радует больше части, если бы только это «все» могло быть разом воспринято. Насколько же лучше Тот, Кто создал целое – Господь наш. И Он не уходит, потому что для Него нет смены.
XII