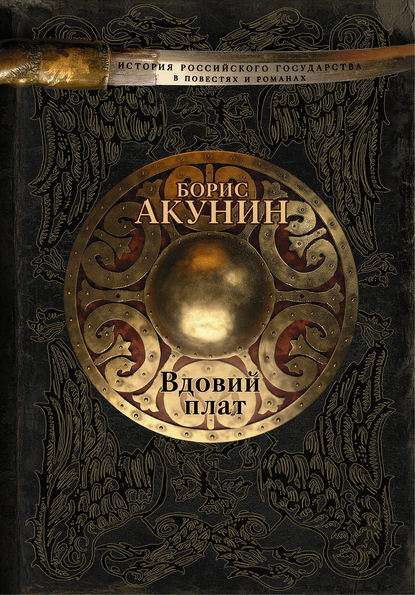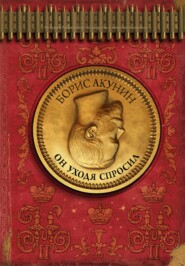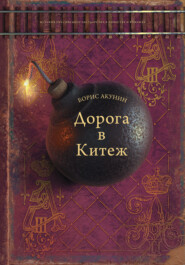По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вдовий плат (сборник)
Автор
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лицо Борецкой осветилось. Она поискала глазами, на что перекреститься, и не нашла – в углу вместо иконы висела картина, на ней какая-то круглолобая немкиня, будто живая.
– Богоматерь? – спросила Марфа.
Шелковая кивнула:
– Мадонна. Я ее из Венеции привезла.
Поплевав через плечо, чтобы отогнать бесов (Богоматерь была басурманская), Железная Марфа все же на нее перекрестилась.
– Да, поклевали нас низовские чайки в семьдесят девятом. Многих, и моего Митьшу средь прочих. А после, наевшись, улетели, и вода снова стала наша. Нам Москву над водой не одолеть. У них клювы и когти железные. У нас – серебриста чешуя да красноперы плавники, боле ничего. Плохие мы воины. И не в войне только дело. Нам с великим князем не совладать, потому что ему своей державой править легко: как приказал, так и сделают. У нас же, в Новгороде, народ вольный, и каждого нужно уговорить, убедить. Они быстрые, мы медленные. У них одна голова, у нас тысяча.
– И что ж теперь, сдаваться Ивану? – удивилась Настасья, никак не ожидавшая от боевитой Марфы подобных речей.
– Не сдаваться. А быть умными. Про тысячу голов – это я зря сказала. Голов в Новгороде только три, и все в этой комнате. Права Ефимия.
– Ты к чему клонишь? И причем тут сон?
– А вот при чем. Нам есть куда от чайки спрятаться. В поле мы вояки плохие, зато у нас стены крепки, а на стенах – новые немецкие пушки. Хочет Иван встать за городом, у наместника? Вот и хорошо. А мы ворота запрем, на стены стражу поставим – пускай видит. Будем сами к нему ездить, а в город не допустим. На глубине отсидимся.
Ефимия с Настасьей переглянулись. Железная снова вела дело к войне, только на сей раз оборонительной. Как это законного великого князя в город не пускать?
Правда и то, что в семьдесят девятом, после поражения на Шелони, только стенами и спаслись. Марфа тогда велела сжечь все посады, колеблющихся казнила смертью, велела палить из всех пушек. И отступился Иван, удовольствовался откупными деньгами и присягой на верность. Но ведь он, поди, тоже не дурак и к такому обороту изготовился? Затеет осаду, вызовет с Низу полки, разорит всю Новгородчину – и возьмет измором. Помощи-то ждать неоткуда.
– Сон твой и вправду вещий. – Настасья изобразила задумчивость. – Да не тем, о чем ты думаешь. Ты про серебряну чешую сказала. Вот в чем наша сила и наше спасение.
– В чешуе? – сморгнула Борецкая.
– В серебре.
Шелковая наклонилась к Настасье:
– Вижу, придумала ты уже что-то. Говори.
– Иван хоть и великий государь, а все же должен с ближними людьми считаться. С ним едут братья, бояре, воеводы. Все голодные, жадные. Это они его к войне толкают, зарятся на новгородскую добычу. С них-то мы и начнем. Усытим каждого, потихоньку, серебром. Кого подкормим, а кого и приручим. Чешуи у нас, слава богу, много. Скинемся всем боярством и купечеством, тряхнем мошной. И владыка пускай тоже раскошелится, он всех нас богаче. Соберем, женки, Госпо?ду и будем на ней говорить едино. Назначим, сколько с кого взять. Распределим меж собой московских – кто кого будет покупать. Иван до денег тоже жаден, с ним надо торговаться долго. Когда он увидит, что братья и бояре воевать больше не хотят, а хотят домой хабар везти – глядишь, и великий князь покладистей станет.
– Хорошо придумано, – сразу объявила Ефимия. – Это мы можем, это мы умеем.
Не заспорила и Борецкая. Сказала лишь:
– Нужно будет позвать сюда Василия Ананьина, объявить первому. Уважение оказать, он же степенной посадник.
– Я бы на твоем месте с ним поговорила с глазу на глаз. Так оно еще краше выйдет, – расщедрилась на совет Настасья, довольная, что самое главное решилось, и быстро. – Давайте главных низовских между собою поделим – кому кого обхаживать. Братьев великокняжеских могу на себя взять, если город мне деньгами пособит, они оба – жадные пауки. Возьму и наместника Борисова.
– Я могу главных московских воевод – Данилу Холмского, Стригу Оболенского. Чем мужи свирепее, тем они у меня лучше под дудку пляшут. Как медведи у скомороха, – лукаво улыбнулась Горшенина.
Марфа почернела лицом при поминании князя Холмского – это он разбил новгородское войско под Шелонью и захватил Дмитрия Борецкого в плен.
– Ты у нас необходительна, непритворчива, – мягко сказала ей Шелковая. – Держись от московских подальше. Деньгами поможешь.
Тут же начали считать – Григориева вынула из своего чудо-посоха скрученную бересту, стала выводить цифирь: сколько дадут сами женки, да сколько брать с великих родов, с архиепископа, с купеческих сотен. В Новгороде водилось много богатых людей, с кого есть что взять.
Денежный счет все три любили и за увлекательным занятием помягчели, заговорили о ненасущном. Об оставшихся в столовой мужчинах и не вспоминали – сколько нужно, столько и подождут.
Притомившись, сделали перерыв. Настасья с Ефимией попили взвара, поели пряников. Постница Марфа сладким не оскоромилась, выпила чарку воды с уксусом, переломила черный хлебец.
– Смотрю я на вас, бабоньки, и не возьму в толк, что вы такие скучные? – молвила Шелковая, разглядывая гостий. – Ты, Настасья, живешь, будто телегу с камнями волочишь. Ты, Марфа, себя до смерти хоронишь, словно схимница. У нас с вами сейчас самые лучшие годы. Ум есть, сила есть, никто нам не указ, и нестарые еще. Живи да радуйся.
– Хорошо тебе говорить, при живом муже, – качнула головой Григориева.
– Горя ты не видала, Ефимия, – прибавила Борецкая.
У Горшениной с лица пропала улыбка.
– А много ли вы про меня, дорогие подружки, знаете? Может, я просто виду не подаю? Жизнь горем никого не обходит, но ты горькое выплюнь, а не можешь выплюнуть – проглоти, заешь сахарком и не жалуйся. На жалких черти ездят. Если ты упиваешься горем, или хворобой, или тем, чего тебе не хватает, – такою и будешь: горькой, хворой, несытой. А если радуешься красоте, милоте, солнышку – будешь красивой, милой и солнечной.
Настасья подумала, что, наверное, не шибко весело иметь такого мужа, а у Ефимьиной замужней дочери уже третье дитя рождается мертвым. Внуков как не было, так и нету.
Про мужа Горшенина будто подслушала. Дернула плечом, нежное лицо вновь осветилось беззаботной улыбкой:
– Вот вы обе со своим вдовством носитесь, по покойникам скорбите, а я, честно сказать, не пойму, на что мужья вообще нужны? Много ль мы с вами от них хорошего видели? Твой Исак Андреич, – обратилась она к Марфе, – был мужик старый, траченный, какая от такого радость? А первый был вовсе лютый зверь. Когда его черт забрал, поди, рада была?
Каменная с интересом поглядела – что на это Борецкая? У той сухое лицо не дрогнуло, лишь на миг потускнел взгляд.
А ведь Настасья помнила ее девушкой, почти девочкой, лет сорок назад. Видывала в Соборе и несколько раз на гостьбищах.
Марфа Лошинская была черненькая, тоненькая, с огромными испуганными глазами. Шестнадцати лет ее выдали за боярина Филиппа Никитина, и после того она надолго исчезла. Сначала говорили, что муж ее из дому не выпускает, бьет, всяко терзает и что однажды ее якобы из петли вынули. Потом перестали говорить, забыли. У Никитина будто сами по себе появились двое сыновей и даже стали подрастать. А потом Филипп вдруг враз помер, и Марфа вышла на волю уже такой, как ныне: высушенной, неистовой, с горящим взглядом, и взяла семейное дело в железные руки. Бог знает, через что она там взаперти прошла и какой ценой обрела свою силу. Настоящая сила – это Настасья знала по себе – обретается только через большое горе и тяжкое испытание. А помер Филипп Никитин странно. В гробу лежал синий, распухший. Поговаривали нехорошее, но никто о нем не жалел, поганый был человек. Достанься Настасье такой муж, она не стала бы столько ждать, в первый же год отравила бы. Нет, не осуждала она Марфу, даже если сплетня была правдива. Те двое сыновей, никитинские, потом в северном море потонули, и многие в том увидели Божью кару: извела-де супруга, так и детей от него отдай. Но к тому времени Марфа уже снова была замужем, за посадником Исааком Борецким и родила себе еще двоих, Дмитрия и Федора. Вот ведь судьба (Настасья слегка даже пожалела врагиню): остаться с одним сыном из четырех, и тот – Дурень.
Ефимия обернулась к Григориевой:
– Твоего мужа Юрия, Настасьюшка, я не застала, девчонкой была, но…
– Только Юрия моего не трожь! – перебила Каменная.
В ярость она впадала очень редко, и когда такое происходило, все вокруг вжимали головы в плечи, но Ефимия не устрашилась и не сбилась.
– Да будет тебе. Сколько ты с ним прожила? И сколько тебе тогда годов было? Ты его толком и узнать-то не успела. Его в твоей жизни, считай, почти что и не было. Выдумала себе икону и молишься на нее тридцать пять лет. Ты хоть лицо его помнишь?
Григориева растерялась, чего с ней уж и вовсе никогда не случалось.
В самом деле, какое у Юрия было лицо? Даже зажмурилась, но увидела не мужа, а сына Юрашу – вислогубого, лупоглазого. Стиснула зубы, велела себе: вспоминай!
И вдруг увидела явственно, словно расступилась пучина и на миг выпустила покойника, оживила.
На нее из прошлого смотрел не мужчина, а юнец. Был он веселый, улыбчивый, ясный, но с ним, отроком, ей нынешней, пятидесятипятилетней, и говорить-то было бы не о чем. Мальчик.
На подмогу пришла Марфа, от которой помощи ждать никак не приходилось.
– А без иконы жить нельзя. В Бога ты, Ефимья, не веруешь, вот что. Ты когда последний раз в церкви была?
– Богоматерь? – спросила Марфа.
Шелковая кивнула:
– Мадонна. Я ее из Венеции привезла.
Поплевав через плечо, чтобы отогнать бесов (Богоматерь была басурманская), Железная Марфа все же на нее перекрестилась.
– Да, поклевали нас низовские чайки в семьдесят девятом. Многих, и моего Митьшу средь прочих. А после, наевшись, улетели, и вода снова стала наша. Нам Москву над водой не одолеть. У них клювы и когти железные. У нас – серебриста чешуя да красноперы плавники, боле ничего. Плохие мы воины. И не в войне только дело. Нам с великим князем не совладать, потому что ему своей державой править легко: как приказал, так и сделают. У нас же, в Новгороде, народ вольный, и каждого нужно уговорить, убедить. Они быстрые, мы медленные. У них одна голова, у нас тысяча.
– И что ж теперь, сдаваться Ивану? – удивилась Настасья, никак не ожидавшая от боевитой Марфы подобных речей.
– Не сдаваться. А быть умными. Про тысячу голов – это я зря сказала. Голов в Новгороде только три, и все в этой комнате. Права Ефимия.
– Ты к чему клонишь? И причем тут сон?
– А вот при чем. Нам есть куда от чайки спрятаться. В поле мы вояки плохие, зато у нас стены крепки, а на стенах – новые немецкие пушки. Хочет Иван встать за городом, у наместника? Вот и хорошо. А мы ворота запрем, на стены стражу поставим – пускай видит. Будем сами к нему ездить, а в город не допустим. На глубине отсидимся.
Ефимия с Настасьей переглянулись. Железная снова вела дело к войне, только на сей раз оборонительной. Как это законного великого князя в город не пускать?
Правда и то, что в семьдесят девятом, после поражения на Шелони, только стенами и спаслись. Марфа тогда велела сжечь все посады, колеблющихся казнила смертью, велела палить из всех пушек. И отступился Иван, удовольствовался откупными деньгами и присягой на верность. Но ведь он, поди, тоже не дурак и к такому обороту изготовился? Затеет осаду, вызовет с Низу полки, разорит всю Новгородчину – и возьмет измором. Помощи-то ждать неоткуда.
– Сон твой и вправду вещий. – Настасья изобразила задумчивость. – Да не тем, о чем ты думаешь. Ты про серебряну чешую сказала. Вот в чем наша сила и наше спасение.
– В чешуе? – сморгнула Борецкая.
– В серебре.
Шелковая наклонилась к Настасье:
– Вижу, придумала ты уже что-то. Говори.
– Иван хоть и великий государь, а все же должен с ближними людьми считаться. С ним едут братья, бояре, воеводы. Все голодные, жадные. Это они его к войне толкают, зарятся на новгородскую добычу. С них-то мы и начнем. Усытим каждого, потихоньку, серебром. Кого подкормим, а кого и приручим. Чешуи у нас, слава богу, много. Скинемся всем боярством и купечеством, тряхнем мошной. И владыка пускай тоже раскошелится, он всех нас богаче. Соберем, женки, Госпо?ду и будем на ней говорить едино. Назначим, сколько с кого взять. Распределим меж собой московских – кто кого будет покупать. Иван до денег тоже жаден, с ним надо торговаться долго. Когда он увидит, что братья и бояре воевать больше не хотят, а хотят домой хабар везти – глядишь, и великий князь покладистей станет.
– Хорошо придумано, – сразу объявила Ефимия. – Это мы можем, это мы умеем.
Не заспорила и Борецкая. Сказала лишь:
– Нужно будет позвать сюда Василия Ананьина, объявить первому. Уважение оказать, он же степенной посадник.
– Я бы на твоем месте с ним поговорила с глазу на глаз. Так оно еще краше выйдет, – расщедрилась на совет Настасья, довольная, что самое главное решилось, и быстро. – Давайте главных низовских между собою поделим – кому кого обхаживать. Братьев великокняжеских могу на себя взять, если город мне деньгами пособит, они оба – жадные пауки. Возьму и наместника Борисова.
– Я могу главных московских воевод – Данилу Холмского, Стригу Оболенского. Чем мужи свирепее, тем они у меня лучше под дудку пляшут. Как медведи у скомороха, – лукаво улыбнулась Горшенина.
Марфа почернела лицом при поминании князя Холмского – это он разбил новгородское войско под Шелонью и захватил Дмитрия Борецкого в плен.
– Ты у нас необходительна, непритворчива, – мягко сказала ей Шелковая. – Держись от московских подальше. Деньгами поможешь.
Тут же начали считать – Григориева вынула из своего чудо-посоха скрученную бересту, стала выводить цифирь: сколько дадут сами женки, да сколько брать с великих родов, с архиепископа, с купеческих сотен. В Новгороде водилось много богатых людей, с кого есть что взять.
Денежный счет все три любили и за увлекательным занятием помягчели, заговорили о ненасущном. Об оставшихся в столовой мужчинах и не вспоминали – сколько нужно, столько и подождут.
Притомившись, сделали перерыв. Настасья с Ефимией попили взвара, поели пряников. Постница Марфа сладким не оскоромилась, выпила чарку воды с уксусом, переломила черный хлебец.
– Смотрю я на вас, бабоньки, и не возьму в толк, что вы такие скучные? – молвила Шелковая, разглядывая гостий. – Ты, Настасья, живешь, будто телегу с камнями волочишь. Ты, Марфа, себя до смерти хоронишь, словно схимница. У нас с вами сейчас самые лучшие годы. Ум есть, сила есть, никто нам не указ, и нестарые еще. Живи да радуйся.
– Хорошо тебе говорить, при живом муже, – качнула головой Григориева.
– Горя ты не видала, Ефимия, – прибавила Борецкая.
У Горшениной с лица пропала улыбка.
– А много ли вы про меня, дорогие подружки, знаете? Может, я просто виду не подаю? Жизнь горем никого не обходит, но ты горькое выплюнь, а не можешь выплюнуть – проглоти, заешь сахарком и не жалуйся. На жалких черти ездят. Если ты упиваешься горем, или хворобой, или тем, чего тебе не хватает, – такою и будешь: горькой, хворой, несытой. А если радуешься красоте, милоте, солнышку – будешь красивой, милой и солнечной.
Настасья подумала, что, наверное, не шибко весело иметь такого мужа, а у Ефимьиной замужней дочери уже третье дитя рождается мертвым. Внуков как не было, так и нету.
Про мужа Горшенина будто подслушала. Дернула плечом, нежное лицо вновь осветилось беззаботной улыбкой:
– Вот вы обе со своим вдовством носитесь, по покойникам скорбите, а я, честно сказать, не пойму, на что мужья вообще нужны? Много ль мы с вами от них хорошего видели? Твой Исак Андреич, – обратилась она к Марфе, – был мужик старый, траченный, какая от такого радость? А первый был вовсе лютый зверь. Когда его черт забрал, поди, рада была?
Каменная с интересом поглядела – что на это Борецкая? У той сухое лицо не дрогнуло, лишь на миг потускнел взгляд.
А ведь Настасья помнила ее девушкой, почти девочкой, лет сорок назад. Видывала в Соборе и несколько раз на гостьбищах.
Марфа Лошинская была черненькая, тоненькая, с огромными испуганными глазами. Шестнадцати лет ее выдали за боярина Филиппа Никитина, и после того она надолго исчезла. Сначала говорили, что муж ее из дому не выпускает, бьет, всяко терзает и что однажды ее якобы из петли вынули. Потом перестали говорить, забыли. У Никитина будто сами по себе появились двое сыновей и даже стали подрастать. А потом Филипп вдруг враз помер, и Марфа вышла на волю уже такой, как ныне: высушенной, неистовой, с горящим взглядом, и взяла семейное дело в железные руки. Бог знает, через что она там взаперти прошла и какой ценой обрела свою силу. Настоящая сила – это Настасья знала по себе – обретается только через большое горе и тяжкое испытание. А помер Филипп Никитин странно. В гробу лежал синий, распухший. Поговаривали нехорошее, но никто о нем не жалел, поганый был человек. Достанься Настасье такой муж, она не стала бы столько ждать, в первый же год отравила бы. Нет, не осуждала она Марфу, даже если сплетня была правдива. Те двое сыновей, никитинские, потом в северном море потонули, и многие в том увидели Божью кару: извела-де супруга, так и детей от него отдай. Но к тому времени Марфа уже снова была замужем, за посадником Исааком Борецким и родила себе еще двоих, Дмитрия и Федора. Вот ведь судьба (Настасья слегка даже пожалела врагиню): остаться с одним сыном из четырех, и тот – Дурень.
Ефимия обернулась к Григориевой:
– Твоего мужа Юрия, Настасьюшка, я не застала, девчонкой была, но…
– Только Юрия моего не трожь! – перебила Каменная.
В ярость она впадала очень редко, и когда такое происходило, все вокруг вжимали головы в плечи, но Ефимия не устрашилась и не сбилась.
– Да будет тебе. Сколько ты с ним прожила? И сколько тебе тогда годов было? Ты его толком и узнать-то не успела. Его в твоей жизни, считай, почти что и не было. Выдумала себе икону и молишься на нее тридцать пять лет. Ты хоть лицо его помнишь?
Григориева растерялась, чего с ней уж и вовсе никогда не случалось.
В самом деле, какое у Юрия было лицо? Даже зажмурилась, но увидела не мужа, а сына Юрашу – вислогубого, лупоглазого. Стиснула зубы, велела себе: вспоминай!
И вдруг увидела явственно, словно расступилась пучина и на миг выпустила покойника, оживила.
На нее из прошлого смотрел не мужчина, а юнец. Был он веселый, улыбчивый, ясный, но с ним, отроком, ей нынешней, пятидесятипятилетней, и говорить-то было бы не о чем. Мальчик.
На подмогу пришла Марфа, от которой помощи ждать никак не приходилось.
– А без иконы жить нельзя. В Бога ты, Ефимья, не веруешь, вот что. Ты когда последний раз в церкви была?