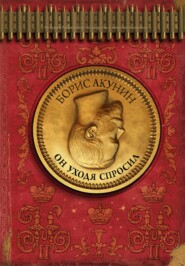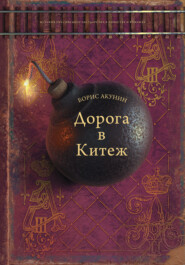По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бох и Шельма
Автор
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Придется вернуться в самое изголовье и начать заново, а то нескладно получается.
Стало быть, шел Яшка Шельма погожим майским днем по Ярославову дворищу, где всегда не протолкнешься, и заметил в толпе некое шевеление, будто волны по воде. Яшка на цыпки привстал (росту он был скромного): кто это такой важный, не посадник ли, не тысяцкий? Нет, вроде бы чужеземное посольство.
Ехали верхами какие-то люди, не по-русски одетые. Пригляделся Яшка к переднему всаднику – ох! В груди стало холодно, а посередке лба, наоборот, горячо.
На толстом, сонном мерине ехал хер Бох, тоже толстый, с сонно прикрытыми глазами, седобородый, с круглыми румяными щеками, со сложенными на брюхе пухлыми маленькими руками. Яшка сначала не поверил зрению, потом испуганно присел. Он знал, что купчина только выглядит квелым, а на самом деле глядит зорко, не упускает никакую мелочь.
Что это его в Новгород принесло? Ради какой такой надобности?
Дальше – хуже.
За Бохом ехал его верный слуга конопатый Габриэль, самый страшный человек на свете. А может, и не человек, но исчадие подземное, чудище адское. Никого и ничего на свете Яшка не боялся, однако при виде Габриэля обратился в дрожащий лист. Вспомнил, как его, извивающегося, жуткое идолище держало одной клешней за шею, в другой же алело раскаленное тавро…
Оба – и Бох, и его цепной пес – были точь-в-точь такие же, как в Неметчине: хозяин в широком плаще, именуемом «мантель», и головном блине-барете; слуга во всем красном, кровавом, даже сапоги цвета сырого мяса.
Оно, конечно, купеческий дом «Бох Кауфхоф» торгует и с Новгородом, и с Псковом, а всё же за какой необходимостью сам хозяин в Руслянд пожаловал?
Всадники – их было десятка два – и крытые возы с чем-то тяжелым повернули к мосту через Волхов, в сторону Детинца. И хоть было Шельме любопытно, чего ради Бох оставил свой Любек, но все же не до такой меры, чтоб соваться к волку в пасть.
Учесывать надо было из Новгорода, подобру-поцелу. Нисколько не хотелось обретаться в одном месте с Бохом и его ужасным подручником. Земля большая, а комару улететь – сбор недолгий.
Надо было только в дорогу животишки сложить да с Пышатой без обид распрощаться. Потому что бабу обижать нельзя, особенно если видал от нее только хорошее.
А надо сказать, что от баб Яшка в жизни ничего, кроме хорошего, и не ведывал.
Вот сладко и весело жилось бы, если б на свете обитали одни женки. Попы говорят: жена – сосуд греховный, все беды от нее, но любой, у кого имеется голова с глазами и ушами, знает: всё прямо наоборот. Это мужики опасные, злодурные, чуть зазеваешься – обманут, хомут наденут, а то и убьют. Баба же – существо заботливое, жалостливое, щедрое. Опять же на вид, на ощупь, на запах – с мужами и не сравнивай. На вкус, языком лизнуть, тоже сладкая, если молодая. Но и немолодые тоже хороши, им от тебя мало что надо – дай только полюбить, поухаживать. В детстве Ничейка ужасно завидовал ребятам, у кого мамка есть или, еще лучше, бабушка, – и погладит, и кусок даст, и нос подотрет.
Плохие женки тоже встречаются, но это такая же редкость, как хороший мужик. Некрасивых же баб не бывает совсем. В каждой, если умеючи глядеть, что-нибудь отрадное сыщется. В постельном деле красота ни при чем, оно темноту любит, а в темноте что Василиса Распрекрасная, что девка-чернавка – все одинаки. Ну, то есть не одинаки, конечно, но красота-то здесь точно невзасчет.
Шельма женскую суть проницал в доскональности, но понимание свое не выпячивал, и бабы его очень любили – за то, что чувствовали себя с ним красивыми и желанными. Не было павы, какую Яшка не смог бы улестить, если очень захочет.
Секрет простой: не уговаривай бабу на то, чего ей не надобно, а только на то, чего она сама хочет, даже если о том не догадывается. А им всем от мужчины чего-то надо. Сердца или плоти, ласки или таски, чтоб защитил или чтоб, наоборот, дозволил себя защитить. Угадал, в чем потребность женки, – считай, твоя.
Взять нынешнюю приятельницу Яшкиного сердца, кормщицкую вдову Пышату Мелентьевну. Женщина дородная, в большой телесной силе, настоящего новгородского нрава – никакой обиды не терпит, умеет за себя постоять. В позапрошлый год поругалась с другой вдовой, которая держала такую же торговлю пухом-периной. Слово за слово, вцепились в волосья, пошло на кулачки – еле растащили. Но за оскорбление и поношение чести Пышата Мелентьевна пошла к судье, и тот, замучась разбираться, которая права, приговорил истицу с ответчицей к «полю» – биться на ристалище, пускай Бог рассудит. Бабы вышли в кольчугах и шеломах, махались палицами, и сбила Пышата врагиню с ног крепким ударом. Получила в удовлетворение полтину денег и славу на весь Славенский конец.
Шельма на том поединке был, воительницей восхитился и решил, что такая-то ему и нужна. В ту пору он только вернулся из треклятого Любека. Драный, голый, с волдырем на лбу, с незажившими еще синяками от Габриэлевых кулаков. Как раз подыскивал бабу, чтоб подселиться.
Вызнал, что за Пышата такая, ладно ли живет. Оказалось, свой дом у ней, двор, лавка на Торге.
Походил денек-другой за богатыршей, присмотрелся. Как по площади утицей плывет, как в церкви бьет земные поклоны – и сразу же понял горячую ее душу, голодную на щедрость.
Дальше было легко. Подошел будто бы подушку купить. Завел неторопливую беседу – о своих странствиях, о тяжких страданиях, и больше о последних, чем о первых, потому что женщины вроде Пышаты Мелентьевны не сильно любопытны, но очень жалостливы. Через полчаса слушательница ревела в три ручья, еще через малое время заперла лавку и повела мученика к себе домой, где он с тех пор и обретался, в сытости, чистоте и холе.
Как же с такой по-доброму не попрощаться? Может, еще вернуться судьба. Не навечно же Бох со своим поганым Габриэлем в Новгороде останутся.
– Собери-ка меня в малую дорогу, – сказал Яшка, входя в горницу, где Пышата как раз вынимала из печи противень с румяными, как она сама, пирогами. – Видение мне было, Гаврилы-архангела. Езжай, говорит, раб Божий, на богомолье в Печерскую обитель, не то беда случится с особой, какую любишь больше собственного живота.
– Что за беда, Шельмушка? – охнула Пышата. В ее ушах закачались эмалевые колтки, а пироги посыпались с противня на половик. К Яшкиным видениям она привыкла и верила в них бессомненно. Считала его ясновидящим, а что на самом деле значит «шельм», не ведала.
Сразу и заплакала:
– Помру? Захвораю?
– Захвораешь навряд ли, здоровье у тебя крепкое. А помереть можешь, архангел врать не будет. Но я тебя своей молитвой спасу. Поспешить только надо. Лошадку мою запряги, рубаху сунь запасную. И пирогов положить не забудь. Горько мне от тебя уезжать, Пышата Мелентьевна. Лучше тебя бабы нету. Потому и еду. Чернецом, схимником сделаюсь, но тебя вымолю. А коли будет мне новое видение, что ты в неопасении, – вернусь. Это как Бог даст. Ты надейся.
Вот как надо с женщиной расставаться. И обцеловала, и слезами умыла, а удерживать не стала. Вернешься к ней – вдвое любить будет. А если не судьба вернуться – останется у бабы дорогое воспоминание, которое она по гроб лелеять будет.
В недолгом времени вывел Яшка со двора лошадь с двумя дорожными сумами, махнул Пышате, чтоб не стояла у окошка, – дурная это примета, да и увидит, что он не налево, к Печерским воротам, а направо, к Московским поворачивает.
В сумах кроме пирогов лежали две штуки фламандского батиста, который на Москве идет в три цены против новгородской.
Повернул за угол – и встал, как заледеневши.
Там, прислонившись к забору, ждал страшный человек Габриэль, ростом с сажень. Свой красный колпак, прозванием «капушон», откинул на спину – тепло было, конец мая. На голом черепе, на неподвижной роже, на шее, на видной через распахнутый ворот груди рыжели мелкие веснушки.
– Комм, Шельм, – сказал Габриэль на своем корявом немецком. Он был родом не немец, а кто его знает кто. – Идем. Господин ждет.
Под свинцовым взглядом преужасного змея из Яшки разом вся сила – вон.
Поучение мудрого хитрому
Про взгляд Габриэля нужно особо сказать. Глаза у жути-нежити были круглые, белесые, немигающие, словно не человеческие, а рыбьи. Или нет, наоборот: когда они смотрели в упор, казалось, что это ты рыба, а он рыбник – приглядывается, как вырезать из тебя требуху и жабры. На поясе, тоже красном, у Бохова помощника всегда висел большой железный гребень с редкими зубьями, острыми и длинными. Что он им причесывал, непонятно, ибо никакой растительности на голове у него не было. Еще болтался широкий нож в красных же ножнах, и мясистая, чуть не с окорок рука, лежала на рукоятке, но не в угрозу, а просто так, для удобства. Яшка и без ножа поплелся за страшилищем, яко агнец на заклание.
Повели его Варяжской улицей к Немецкому подворью. Где ж еще ганзейскому купцу остановиться? Там и контора ихняя, и кирха, и склады-амбары. Мейстеры с подмастерьями и кнехтами, приезжие купцы с приказчиками тоже селились на просторном дворище, со всех сторон обнесенном стеной – чтоб не заражали своим басурманским зловонием и дурными обыкновениями русской жизни. А может, немцы когда-то сами отгородились. Никто этого не помнил, давно было.
Шельма не раз бывал на подворье, так что брел, по сторонам не пялился. Зловещий провожатый вел его мимо смешной немецкой бани, мимо пивоварни и мельни в самый красный угол – туда, где в высоком и узком трехъярусном доме проживал альдерман, главный немецкий старшина. Видно, принимали здесь Боха как почетного гостя. Оно и неудивительно. Против такого человека и местный ганзейский альдерман невелика птица.
Еле волоча ноги поднялся Яшка по какой-то тесной лестнице, где солнце светило через цветные, об мелкую клетку, стекла, в горницу, по-немецки темную – всё резной дуб, да высокие стенные сундуки названием «шкапы».
– Этот к господину, – сказал Габриэль кнехту, стоявшему при высокой двери с ганзейским гербом. – Приказано.
– Пускай подождет, – был ответ. – У господина гость. Новгородский бургомайстер.
Поставили Шельму в углу, ожидать. А он ничего, не торопился на встречу. Хоть бы ее еще тысячу лет не было.
Габриэль его караулить не стал.
– Будь тут, – сказал. – Вызовут.
Да ушел.
И захотелось Яшке, конечно, сбежать. Он уже догадался, зачем его сюда приволокли. Из-за пешки!
У хера Боха была любимая игра, называется «шахи». Резные из слоновой кости фигурки на доске в черно-белый квадратик. Игра скучная, много в нее не выиграешь, потому что не словчишь и удача не поможет. Купец в шахи сам с собой играл, когда о чем-нибудь размышлял, а размышлял он часто. И вот, когда Яшку в тот страшный день, обожженного и вопящего, тащили из хозяйских покоев на позорное изгнание, а он за всё встречное руками хватался, попалась ему шаховая доска, и цапнул он с нее малую фигурку. В отместку. Чтоб напоследок хоть чем напакостить своему погубителю. Потом в плавании выменял у корабельного матроса на кусок окорока, жрать-то ведь надо.
Сбежать отсюда, из дубового чертога, было бы нетрудно. Вон она, лестница, вон он двор, и ворота нараспашку.
Останавливали три соображения.
Стало быть, шел Яшка Шельма погожим майским днем по Ярославову дворищу, где всегда не протолкнешься, и заметил в толпе некое шевеление, будто волны по воде. Яшка на цыпки привстал (росту он был скромного): кто это такой важный, не посадник ли, не тысяцкий? Нет, вроде бы чужеземное посольство.
Ехали верхами какие-то люди, не по-русски одетые. Пригляделся Яшка к переднему всаднику – ох! В груди стало холодно, а посередке лба, наоборот, горячо.
На толстом, сонном мерине ехал хер Бох, тоже толстый, с сонно прикрытыми глазами, седобородый, с круглыми румяными щеками, со сложенными на брюхе пухлыми маленькими руками. Яшка сначала не поверил зрению, потом испуганно присел. Он знал, что купчина только выглядит квелым, а на самом деле глядит зорко, не упускает никакую мелочь.
Что это его в Новгород принесло? Ради какой такой надобности?
Дальше – хуже.
За Бохом ехал его верный слуга конопатый Габриэль, самый страшный человек на свете. А может, и не человек, но исчадие подземное, чудище адское. Никого и ничего на свете Яшка не боялся, однако при виде Габриэля обратился в дрожащий лист. Вспомнил, как его, извивающегося, жуткое идолище держало одной клешней за шею, в другой же алело раскаленное тавро…
Оба – и Бох, и его цепной пес – были точь-в-точь такие же, как в Неметчине: хозяин в широком плаще, именуемом «мантель», и головном блине-барете; слуга во всем красном, кровавом, даже сапоги цвета сырого мяса.
Оно, конечно, купеческий дом «Бох Кауфхоф» торгует и с Новгородом, и с Псковом, а всё же за какой необходимостью сам хозяин в Руслянд пожаловал?
Всадники – их было десятка два – и крытые возы с чем-то тяжелым повернули к мосту через Волхов, в сторону Детинца. И хоть было Шельме любопытно, чего ради Бох оставил свой Любек, но все же не до такой меры, чтоб соваться к волку в пасть.
Учесывать надо было из Новгорода, подобру-поцелу. Нисколько не хотелось обретаться в одном месте с Бохом и его ужасным подручником. Земля большая, а комару улететь – сбор недолгий.
Надо было только в дорогу животишки сложить да с Пышатой без обид распрощаться. Потому что бабу обижать нельзя, особенно если видал от нее только хорошее.
А надо сказать, что от баб Яшка в жизни ничего, кроме хорошего, и не ведывал.
Вот сладко и весело жилось бы, если б на свете обитали одни женки. Попы говорят: жена – сосуд греховный, все беды от нее, но любой, у кого имеется голова с глазами и ушами, знает: всё прямо наоборот. Это мужики опасные, злодурные, чуть зазеваешься – обманут, хомут наденут, а то и убьют. Баба же – существо заботливое, жалостливое, щедрое. Опять же на вид, на ощупь, на запах – с мужами и не сравнивай. На вкус, языком лизнуть, тоже сладкая, если молодая. Но и немолодые тоже хороши, им от тебя мало что надо – дай только полюбить, поухаживать. В детстве Ничейка ужасно завидовал ребятам, у кого мамка есть или, еще лучше, бабушка, – и погладит, и кусок даст, и нос подотрет.
Плохие женки тоже встречаются, но это такая же редкость, как хороший мужик. Некрасивых же баб не бывает совсем. В каждой, если умеючи глядеть, что-нибудь отрадное сыщется. В постельном деле красота ни при чем, оно темноту любит, а в темноте что Василиса Распрекрасная, что девка-чернавка – все одинаки. Ну, то есть не одинаки, конечно, но красота-то здесь точно невзасчет.
Шельма женскую суть проницал в доскональности, но понимание свое не выпячивал, и бабы его очень любили – за то, что чувствовали себя с ним красивыми и желанными. Не было павы, какую Яшка не смог бы улестить, если очень захочет.
Секрет простой: не уговаривай бабу на то, чего ей не надобно, а только на то, чего она сама хочет, даже если о том не догадывается. А им всем от мужчины чего-то надо. Сердца или плоти, ласки или таски, чтоб защитил или чтоб, наоборот, дозволил себя защитить. Угадал, в чем потребность женки, – считай, твоя.
Взять нынешнюю приятельницу Яшкиного сердца, кормщицкую вдову Пышату Мелентьевну. Женщина дородная, в большой телесной силе, настоящего новгородского нрава – никакой обиды не терпит, умеет за себя постоять. В позапрошлый год поругалась с другой вдовой, которая держала такую же торговлю пухом-периной. Слово за слово, вцепились в волосья, пошло на кулачки – еле растащили. Но за оскорбление и поношение чести Пышата Мелентьевна пошла к судье, и тот, замучась разбираться, которая права, приговорил истицу с ответчицей к «полю» – биться на ристалище, пускай Бог рассудит. Бабы вышли в кольчугах и шеломах, махались палицами, и сбила Пышата врагиню с ног крепким ударом. Получила в удовлетворение полтину денег и славу на весь Славенский конец.
Шельма на том поединке был, воительницей восхитился и решил, что такая-то ему и нужна. В ту пору он только вернулся из треклятого Любека. Драный, голый, с волдырем на лбу, с незажившими еще синяками от Габриэлевых кулаков. Как раз подыскивал бабу, чтоб подселиться.
Вызнал, что за Пышата такая, ладно ли живет. Оказалось, свой дом у ней, двор, лавка на Торге.
Походил денек-другой за богатыршей, присмотрелся. Как по площади утицей плывет, как в церкви бьет земные поклоны – и сразу же понял горячую ее душу, голодную на щедрость.
Дальше было легко. Подошел будто бы подушку купить. Завел неторопливую беседу – о своих странствиях, о тяжких страданиях, и больше о последних, чем о первых, потому что женщины вроде Пышаты Мелентьевны не сильно любопытны, но очень жалостливы. Через полчаса слушательница ревела в три ручья, еще через малое время заперла лавку и повела мученика к себе домой, где он с тех пор и обретался, в сытости, чистоте и холе.
Как же с такой по-доброму не попрощаться? Может, еще вернуться судьба. Не навечно же Бох со своим поганым Габриэлем в Новгороде останутся.
– Собери-ка меня в малую дорогу, – сказал Яшка, входя в горницу, где Пышата как раз вынимала из печи противень с румяными, как она сама, пирогами. – Видение мне было, Гаврилы-архангела. Езжай, говорит, раб Божий, на богомолье в Печерскую обитель, не то беда случится с особой, какую любишь больше собственного живота.
– Что за беда, Шельмушка? – охнула Пышата. В ее ушах закачались эмалевые колтки, а пироги посыпались с противня на половик. К Яшкиным видениям она привыкла и верила в них бессомненно. Считала его ясновидящим, а что на самом деле значит «шельм», не ведала.
Сразу и заплакала:
– Помру? Захвораю?
– Захвораешь навряд ли, здоровье у тебя крепкое. А помереть можешь, архангел врать не будет. Но я тебя своей молитвой спасу. Поспешить только надо. Лошадку мою запряги, рубаху сунь запасную. И пирогов положить не забудь. Горько мне от тебя уезжать, Пышата Мелентьевна. Лучше тебя бабы нету. Потому и еду. Чернецом, схимником сделаюсь, но тебя вымолю. А коли будет мне новое видение, что ты в неопасении, – вернусь. Это как Бог даст. Ты надейся.
Вот как надо с женщиной расставаться. И обцеловала, и слезами умыла, а удерживать не стала. Вернешься к ней – вдвое любить будет. А если не судьба вернуться – останется у бабы дорогое воспоминание, которое она по гроб лелеять будет.
В недолгом времени вывел Яшка со двора лошадь с двумя дорожными сумами, махнул Пышате, чтоб не стояла у окошка, – дурная это примета, да и увидит, что он не налево, к Печерским воротам, а направо, к Московским поворачивает.
В сумах кроме пирогов лежали две штуки фламандского батиста, который на Москве идет в три цены против новгородской.
Повернул за угол – и встал, как заледеневши.
Там, прислонившись к забору, ждал страшный человек Габриэль, ростом с сажень. Свой красный колпак, прозванием «капушон», откинул на спину – тепло было, конец мая. На голом черепе, на неподвижной роже, на шее, на видной через распахнутый ворот груди рыжели мелкие веснушки.
– Комм, Шельм, – сказал Габриэль на своем корявом немецком. Он был родом не немец, а кто его знает кто. – Идем. Господин ждет.
Под свинцовым взглядом преужасного змея из Яшки разом вся сила – вон.
Поучение мудрого хитрому
Про взгляд Габриэля нужно особо сказать. Глаза у жути-нежити были круглые, белесые, немигающие, словно не человеческие, а рыбьи. Или нет, наоборот: когда они смотрели в упор, казалось, что это ты рыба, а он рыбник – приглядывается, как вырезать из тебя требуху и жабры. На поясе, тоже красном, у Бохова помощника всегда висел большой железный гребень с редкими зубьями, острыми и длинными. Что он им причесывал, непонятно, ибо никакой растительности на голове у него не было. Еще болтался широкий нож в красных же ножнах, и мясистая, чуть не с окорок рука, лежала на рукоятке, но не в угрозу, а просто так, для удобства. Яшка и без ножа поплелся за страшилищем, яко агнец на заклание.
Повели его Варяжской улицей к Немецкому подворью. Где ж еще ганзейскому купцу остановиться? Там и контора ихняя, и кирха, и склады-амбары. Мейстеры с подмастерьями и кнехтами, приезжие купцы с приказчиками тоже селились на просторном дворище, со всех сторон обнесенном стеной – чтоб не заражали своим басурманским зловонием и дурными обыкновениями русской жизни. А может, немцы когда-то сами отгородились. Никто этого не помнил, давно было.
Шельма не раз бывал на подворье, так что брел, по сторонам не пялился. Зловещий провожатый вел его мимо смешной немецкой бани, мимо пивоварни и мельни в самый красный угол – туда, где в высоком и узком трехъярусном доме проживал альдерман, главный немецкий старшина. Видно, принимали здесь Боха как почетного гостя. Оно и неудивительно. Против такого человека и местный ганзейский альдерман невелика птица.
Еле волоча ноги поднялся Яшка по какой-то тесной лестнице, где солнце светило через цветные, об мелкую клетку, стекла, в горницу, по-немецки темную – всё резной дуб, да высокие стенные сундуки названием «шкапы».
– Этот к господину, – сказал Габриэль кнехту, стоявшему при высокой двери с ганзейским гербом. – Приказано.
– Пускай подождет, – был ответ. – У господина гость. Новгородский бургомайстер.
Поставили Шельму в углу, ожидать. А он ничего, не торопился на встречу. Хоть бы ее еще тысячу лет не было.
Габриэль его караулить не стал.
– Будь тут, – сказал. – Вызовут.
Да ушел.
И захотелось Яшке, конечно, сбежать. Он уже догадался, зачем его сюда приволокли. Из-за пешки!
У хера Боха была любимая игра, называется «шахи». Резные из слоновой кости фигурки на доске в черно-белый квадратик. Игра скучная, много в нее не выиграешь, потому что не словчишь и удача не поможет. Купец в шахи сам с собой играл, когда о чем-нибудь размышлял, а размышлял он часто. И вот, когда Яшку в тот страшный день, обожженного и вопящего, тащили из хозяйских покоев на позорное изгнание, а он за всё встречное руками хватался, попалась ему шаховая доска, и цапнул он с нее малую фигурку. В отместку. Чтоб напоследок хоть чем напакостить своему погубителю. Потом в плавании выменял у корабельного матроса на кусок окорока, жрать-то ведь надо.
Сбежать отсюда, из дубового чертога, было бы нетрудно. Вон она, лестница, вон он двор, и ворота нараспашку.
Останавливали три соображения.