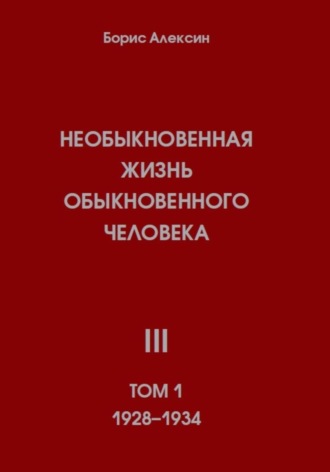
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
– Поезжай к отцу и спроси его разрешения.
Пётр Яковлевич, как это пошло чуть ли не с первых дней его возвращения в Шкотово, продолжал выпивать. Катя знала, что он живёт где-то в зимовье, занимаясь охотой. Приказание матери её не испугало. Вернувшись из школы, она оседлала коня Яшку и немедленно отправилась искать отца. Найдя его и обратившись к нему с просьбой о разрешении вступить в комсомол, Катя ждала ответа с некоторым волнением и страхом. Она думала: «А вдруг тятя откажет? Тогда уже мама ни за что не позволит!»
Пётр Яковлевич несколько минут молчал, а затем как-то безучастно спросил:
– А как мать?
– Она позволит, – слукавила Катя.
– Ну, тогда и я.
Не помня себя от радости, Катя помчалась на своём хромоногом скакуне домой. Вернувшись, она радостно закричала:
– Мама, тятя разрешил!
Акулина Григорьевна, встретив дочь на крыльце, не сказала ничего, только покачала головой.
Теперь девушке понадобилось выполнить следующее необходимое дело – остричься. Не зная, как к этому подступиться, Катя в то же время чувствовала себя неловко: все комсомолки, окружавшие её, были пострижены, и только она одна ходила с косой. А ей ещё дали нагрузку работать с пионерами. Некоторые девочки даже спрашивали свою вожатую, почему она ходит с косой.
Катя понимала, что даже малейший намёк на желание постричься со стороны матери встретит самый твёрдый отпор. Ведь из всех сестёр, имевших, хотя и густые, и даже курчавые, но плохо растущие волосы, только у неё была коса толщиною в руку и ниже колен. Акулина Григорьевна справедливо гордилась этим украшением своей дочери перед всеми родными и знакомыми.
Девушка решилась. Оставшись одна дома, она вооружилась большими портновскими ножницами и чуть ли не одним взмахом безжалостно оттяпала свою чудесную косу. Когда Акулина Григорьевна во время завтрака заметила, что из-под косынки у Кати торчит вихор волос, она не поверила своим глазам! Несколько секунд она ошеломлённо смотрела на дочь, а потом сорвала косынку с её головы и чуть не упала в обморок: вместо прекрасной Катиной косы она увидела копну торчавших в разные стороны плохо подстриженных волос.
Не стерпев такого, она схватила лежавшие у печки щипцы для углей, собираясь по-настоящему проучить эту сумасшедшую девчонку, но Катя не стала дожидаться расправы: с быстротой испуганного зайца она выскочила из-за стола, увернулась от матери, пытавшейся её задержать, и уже через минуту была за воротами своего двора.
Два дня она не являлась домой. Жила у знакомых – Румянцевых. Дольше она не вытерпела, на третий день пришла. В это время жена Андрея Наташа в бане стирала бельё, Катя немедленно присоединилась к ней.
Гнев матери не может быть долговечным, и Акулина Григорьевна, вообще очень сдержанная женщина, вспылив, отошла довольно быстро. Прошло около часа после возвращения Кати, когда её мать направилась в баню, чтобы помочь Наташе в стирке. Зайдя, она увидела там очень старательно работавшую дочь. Катя, подняв голову, вздохнула. Нельзя сказать, чтобы душа у неё была спокойна: внутренне она содрогнулась, ожидая, если не взбучки, то всё-таки самого сурового нагоняя. Но она была дочерью своей матери с таким же твёрдым характером, и поэтому ни одним жестом, ни одним движением не показала своего испуга, а продолжала так же усердно стирать.
Акулина Григорьевна не выдержала:
– Куда же ты, шалапутная, косу дела? – проговорила она, улыбнувшись.
Увидев материнскую улыбку, Катя несмело ответила, чуть ли не шёпотом:
– Под перину засунула…
Тут уж и Наташа не выдержала – громко рассмеялась. А мать проворчала:
– Нашла место! Наташа, ты хоть подравняй её немного, а то глядеть страшно. Да смотри, деду не покажись, он ведь всегда твоей косой любовался, убьёшь старика-то.
Так окончился этот немаловажный для того времени в крестьянской семье эпизод со стрижкой Кати. Надо сказать, что новая причёска не только не испортила её лицо, а даже придала ему больше миловидности и задора.
Вы, вероятно, заметили, что мы почти ничего не говорим о Петре Яковлевиче Пашкевиче, и это неслучайно. Дело в том, что после возвращения с севера, получения им прав на новые наделы земли и проведения кое-каких ремонтных работ по дому и сельхозинвентарю, он как-то почти совсем оторвался от крестьянского хозяйства семьи. Если, находясь на севере, Пётр Пашкевич почти совсем не пил, то теперь запои участились и удлинились. Он опять начал пропадать неделями, возобновил дружбу с охотниками, а ещё больше – с китайцами-земледельцами, бесплатно поившими его. Бывали случаи, когда соседи подбирали опьяневшего Петра и приводили его домой.
Такое поведение в известной мере, может быть, явилось следствием того, что после возвращения вину за поездку на север жена и сын как-то незаметно переложили на него, хотя на самом-то деле он этой поездке сопротивлялся. Все семейные дела, вернувшись в Шкотово, мать с сыном стали решать, не советуясь с ним. А ему, вероятно, стало даже удобнее, и, выполняя между запоями те или иные домашние и полевые работы, он относился к ним так, как делал бы наёмный батрак.
Это не могло не обижать Акулину Григорьевну и, пользуясь предоставленными ей новой властью правами, она решила с мужем развестись.
К тому времени, о котором мы говорили в последней главе предыдущей части, к январю 1928 года произошло следующее. В семье Петра Яковлевича Пашкевича, ещё продолжавшего жить в Шкотове, хозяйничала Акулина Григорьевна Калягина, его бывшая жена, вернувшая себе девичью фамилию после развода. В этом же доме жили её дочери: Катя, окончившая школу в прошлом году и готовившаяся, как мы знаем, выйти замуж за Алёшкина; Женя, учившаяся в последнем классе девятилетки и собиравшаяся стать учительницей; Тамара, учившаяся в восьмом классе, и младшая – третьеклассница Вера. Вместе с ними жила жена Андрея Наташа с двумя сыновьями – Всеволодом восьми лет и Вадимом шести лет. Сам Андрей, как мы помним, убедившись в невозможности содержать свою семью и семью отца только одним крестьянским трудом, работал в Дальлесе и был направлен этой организацией на станцию Ин.
Старшая дочь Людмила вышла замуж за Дмитрия Сердеева и, родив в Шкотове своего первенца Руслана, последовала с ним в Хабаровск к месту службы мужа. Сопровождала её в этом путешествии сама Акулина Григорьевна. И вот, как раз перед самой посадкой в поезд она была огорошена Борисом Алёшкиным, его заявление о женитьбе застало её врасплох.
Может быть, оно и не было совсем неожиданным: о сближении дочери с Борисом своим материнским чутьём она уже знала. Но такое необычное сватовство её встревожило. Проводив Милочку до Хабаровска и оказав ей кое-какую самую необходимую в первые дни помощь, мать заторопилась домой в Шкотово, чтобы успеть хоть как-нибудь собрать и подготовить к замужеству свою следующую дочь. Она знала уже от Бориса, что Катя обещала на днях приехать к нему. Ей, к счастью, удалось уговорить будущего зятя, чтобы приезд Катерины был кратковременным, чтобы настоящая их совместная жизнь началась лишь после того, когда она Катю «соберёт».
Теперь, когда мы вкратце ознакомились с историей и жизнью этого семейства, один из членов которого скоро официально станет самым близким, самым дорогим человеком для нашего героя до конца жизни, можно продолжить прерванный рассказ.
Глава шестая
Читатели, у которых хватило терпения дочитать до конца вторую книгу, без сомнения, помнят, что она закончилась, когда Борис Алёшкин, набравшись храбрости и, что скрывать, нахальства, посвятил Акулину Григорьевну Калягину в свои планы, причём сделал это в таком неподходящем месте, в такое неподходящее время и в такой, в сущности, безапелляционной форме, что все надежды бедной женщины на придание определённой пристойности и принятый порядок в сватовстве и замужестве, которые, как она надеялась, удастся соблюсти, хотя бы при выдаче замуж второй дочери, если уж не удалось это сделать с первой, рассыпались в прах.
Но молодёжь почти всегда своими действиями, словами, поступками нарушает установленные каноны и порядки. Особенно часто случалось это в то время. Тогда революционный дух молодёжи даже как бы требовал нарушения, разрушения существовавших ранее правил поведения в жизни.
Так что не будем удивляться поступку Бориса Алёшкина, а последуем за ним в квартиру, которой он очень гордился, но которая, мягко говоря, не годилась, пожалуй, не только для молодожёнов, но и для холостяка. Это была первая в его жизни квартира, арендованная им самостоятельно, притом не для себя лично, а для семейного человека, ожидавшего в скором времени приезда жены.
Зайдя в отведённый для него угол, он немного разочаровался. Хозяйка убрала оттуда двуспальную кровать, сославшись на то, что с ней угол занимает очень много места в комнате и ходить мимо неё будет затруднительно. Вместо кровати теперь стоял основательно подержанный диван.
В этот же вечер Борис написал, а на следующий день и отправил, письмо своей Катеринке, в котором извещал её, что о предстоящей женитьбе он Акулине Григорьевне сообщил и получил её согласие, что теперь он ждёт свою невесту в ближайшие же дни.
В письме он объяснил Кате, как найти квартиру, что ей лучше всего сойти с поезда на Первой Речке и со станции идти по направлению к кладбищу. Пройдя его, она сразу увидит дом, в котором они будут жить. Сам он её встретить, вероятно, не сможет, так как поезд из Шкотова приходил в то время, когда он должен быть на работе.
О том, чтобы уйти с работы для встречи приезжавшей невесты, парень даже и не подумал. В то время работа для него, как, впрочем, и для многих других, была делом первостепенным, а всё остальное, даже женитьба, оказывалось уже на втором плане.
При последнем свидании молодые люди договорились, что если мама даст своё согласие на их брак, то Катя, получив письмо, приедет к Борису немедленно. По его расчётам, её можно было ожидать через три дня после отправления письма. Этот день приходился на 4 февраля 1928 года. Волнуясь, что Катя не сможет найти квартиру по его описанию, перед уходом на работу Борис попросил свою квартирную хозяйку встретить жену, описав приблизительно её наружность.
Борис убежал с утра на свой склад, где количество поступающих лесоматериалов беспрерывно увеличивалось, и с самого утра до наступления темноты ему приходилось вертеться, как белке в колесе. Нужно было успеть проследить за разгрузкой прибывших с лесоматериалами вагонов, переноской и укладкой поступившего на склад, одновременно производить отпуск леса китайцам-бондарям и принимать поступавшие от них бочки. Кроме того, на всё поступившее и выданное следовало оформить соответствующие документы. В конце рабочего дня Борис должен был через старшинок артелей произвести расчёт с грузчиками за проделанную в этот день работу (тогда рабочие получали заработок ежедневно).
Он вспомнил о том, что сегодня к нему должна впервые, как к мужу, приехать Катеринка, и что она, может быть, уже приехала, лишь после того, как, заперев двери комнатушки, отведённой под контору и усадив у ворот склада старичка-сторожа, вышел на улицу. Борис чуть ли не бегом помчался на Ленинскую улицу, чтобы вскочить в трамвай, доехать до Китайской, там пересесть на другой и в Куперовской пади, выскочив на ходу, по узенькой уличке, извивавшейся вдоль кладбища, спешить в свою квартиру.
Хотя он и сообщил Кате, что, может быть, не сможет её встретить сам, сейчас в его голове бродили самые беспокойные, самые мрачные мысли. Выйдя из вагона и не увидев его, она могла обидеться. «Дождётся обратного поезда и уедет назад, в Шкотово, – думал он, – а ведь она во второй раз ни за что не приедет, у неё такой характер!» – мрачно рассуждал Борис. Тогда прости-прощай все его мечты о Кате вообще, а ведь он без неё не может. Каждую свободную минуту он думает только о ней, она ему видится во всех проходящих девушках, только тогда, когда по горло занят работой, он может о ней на время забыть.
Эти тревожные мысли заставили Бориса всё замедлять и замедлять шаги, и когда он подходил к дому, то вообще еле передвигал ноги. Вдруг он услышал насмешливый голос:
– Вот это торопится домой муженёк! Жена изголодалась, дожидаясь его, можно сказать, уже все глаза проглядела, а он еле идёт! Устал, что ли, так?
Эти слова, а главное, голос, который их произнёс, заставили Бориса встрепенуться. Оставшиеся несколько десятков шагов он не шёл, не бежал, а мчался, как будто к его ногам приделали крылья. Ведь это был её голос, это говорила его Катя!
Она стояла на высоком крыльце, кутаясь в длинное пальто, накинутое на плечи, и смеялась. Взлетев на крыльцо так, что, кажется, он миновал все ступеньки за один прыжок, Борис обхватил Катю и принялся её целовать. Она отпихивала его руками и говорила:
– Да пусти ты, сумасшедший, люди увидят! Да и хозяева каждую минуту могут на крыльцо выйти. Нацелуешься ещё… Пойдём обедать.
Обедали они вдвоём. Хозяйка сумела найти в себе достаточно деликатности, чтобы, подав им обед, уйти из комнаты. За столом Катя сказала, что приехала без вещей на несколько дней погостить. Рассказала она и о том, как нашла его квартиру:
– Ну, пришёл поезд на Первую Речку. Вышла я со своим маленьким узелком из вагона, смотрю во все глаза – Борьки нигде не видно, ну, думаю, опоздал, наверно, на работе задержался. Постояла я немного. Народ со станции разошёлся, решила идти и я. Направилась к кладбищу по дороге, как ты мне написал. Хорошо, что я эти места немного знаю – я ведь, когда училась во Владивостоке, так тут недалеко у Тищенковых жила. Подымаюсь по узенькой дорожке вдоль кладбища, а сама думаю: не встречу Борьку, не найду его квартиры, зайду к Тищенковым, дождусь у них обратного поезда и вернусь в Шкотово. Уж тогда больше к нему ни за что не приеду, ведь и так стыда не оберёшься! Дома-то Наташе и сестрёнкам я сказала, что выхожу за тебя замуж и еду к тебе в гости на несколько дней, и вдруг – здрасьте, вернусь в этот же день! В это время мимо меня по направлению к станции бежит какая-то маленькая пожилая женщина, на ходу она спрашивает: «Не знаете, шкотовский пришёл?» Я не успела ответить, как она вдруг остановилась и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вы не Катя Алёшкина?»
Я, конечно, чуть сразу сгоряча не брякнула: какая ещё Алёшкина?!! Да вовремя опомнилась, подумала: ведь он меня теперь за жену выдаёт, а значит, и фамилию мне свою приписывает. Вот ещё, не было печали! Звалась Пашкевич, а теперь какой-то Алёшкиной буду, однако промолчала, только головой кивнула. Женщина опять заговорила: «Ну вот, славу Богу, что я вас встретила, а то Борис Яковлевич очень бы обижался, уж он мне так крепко наказывал встретить вас у поезда, а я с обедом захлопоталась и прозевала время-то. Уж, вы, пожалуйста, ему не рассказывайте!» Ты знаешь, я чуть в лицо ей не расхохоталась. Как, думаю, это Борьку-то Борисом Яковлевичем величают? Видать, ему вправду пора жениться! Ну, а мне, наверно, замуж ещё рановато – все меня Катей зовут. Да, ты ешь-ешь, не возражай! – остановила она Бориса, заметив, что тот пытается что-то сказать.
После обеда, когда молодые прошли за ширму, в свой уголок, и несколько минут посидели одни, дочери хозяйки и соседка-работница кондитерской фабрики позвали их играть в лото. Так, за игрой в лото, Борис и Катя Алёшкины провели свой первый семейный вечер.
Ночью, кое-как уместившись на довольно узком старом диване, предназначенном для их постели хозяйкой, они очень быстро убедились в неудобстве своего помещения. До приезда Кати Борис как-то не замечал этого. Кормила его хозяйка обильно и вкусно, постель была чистая – со свежими простынями, достаточно мягкая. После работы он шёл на какое-нибудь собрание (он уже встал на партийный учёт трестовской ячейки), или на политзанятия, или даже просто в кино. Домой являлся часов в 9–10, ужинал на кухне, читал там что-нибудь, а часов в 11 ложился на свой диван, крепко засыпал, не обращая никакого внимания на ходивших мимо него взад и вперёд хозяев. Не то было сейчас!
Диван, на котором лежали молодожёны, был отгорожен от остальной комнаты ширмой. Малейшее движение в постели, вздох, как была уверена Катя, был слышен не только снующим без конца мимо них девчонкам хозяйки, но и всему дому. Более или менее свободно они вздохнули лишь немного позже 12 часов ночи, когда вся квартира погрузилась в сон. Борису нужно было на следующий день бежать на работу к восьми часам, а, следовательно, встать, по крайней мере, в половине седьмого.
В эту же ночь Катя категорически заявила, что дольше двух дней она такой пытки не выдержит, что ей утром будет стыдно взглянуть в глаза хозяйке и её дочерям:
– Ведь они всё, всё слышали! – твердила она, чуть не плача.
Тогда же она потребовала от Бориса, чтобы тот немедленно нашёл другую квартиру, где была бы отдельная изолированная комната, что только в этом случае она согласна приехать насовсем. Тот, конечно, обещал, но как выполнить это обещание, пока ещё себе не представлял.
Три дня, которые прогостила Катя в городе, несмотря на все неприятности и неудобства, доставляемые жильём, и на огромное количество сил и времени, которые Боре именно в этот период пришлось отдавать своей новой работе, прошли как сплошной праздник, ведь как бы то ни было, а Катя стала его женой. Она сидела, стояла, лежала с ним рядом, он мог беспрепятственно обнимать её, целовать (что он, кажется, готов был делать беспрерывно), и, главное, она не сопротивлялась, не отталкивала его, не торопилась за эту проклятую калитку в своих воротах, которую Борис иногда был готов разломать в щепки, а покорно сносила все его ласки и иногда даже несмело отвечала на них.
Поезд в Шкотово уходил вечером, и Алёшкину удалось проводить свою жену на станцию. Прощаясь на перроне и, кажется, в первый раз поцеловавшись с ним на людях, Катя ещё раз заявила, что пока он не найдёт порядочной квартиры, она к нему не приедет.
После отъезда Кати Борису стало так пусто и грустно, что самой главной его мыслью стала квартира. Однако в то время как, впрочем, и впоследствии, во Владивостоке с жильём было чрезвычайно плохо: найти отдельную комнату, да ещё женатому человеку, без соответствующего знакомства или без солидных денег не представлялось возможным, а ни того, ни другого у Алёшкина не было.
Напрасно каждый день он бегал по разным адресам, в дальние и ближние уголки города – ничего отвечающего своим требованиям найти не мог. В некоторых местах ему отказывали сразу, только узнав, что он женат, в других предлагали жильё, ещё более тесно связанное с хозяевами, чем в той квартире, в которой он жил сейчас. Наконец, там, где имелась более или менее удобная комната, требовали оплату, по крайней мере, за полгода вперёд, чего Борис при всём желании сделать не мог. Так прошло дней десять.
Конечно, неправильно было бы думать, что всё это время Борис только и делал, что искал квартиру. Поискам её он отдавал только свободное время, а его оставалось не так-то много.
Мы уже описывали, как был загружен рабочий день Алёшкина, но и вечера у него были также достаточно уплотнены. В Дальгосрыбтресте, насчитывавшем к тому времени только в своём центральном аппарате уже гораздо больше ста человек служащих, имелось всего пятеро членов ВКП(б) и один кандидат (сам Борис). Членами партии были председатель правления треста Беркович, начальник общего отдела Глебов, заместитель начальника производственного отдела Гусев и два выдвиженца из рабочих, занимавших небольшие должности в отделе кадров и в отделе сбыта и реализации продукции.
В коммерческом отделе, к которому относился склад Бориса Алёшкина, кроме него коммунистов не было. Начальник отдела (в прошлом коммерческий директор этого крупного частного торгового предприятия) первое время к молодому десятнику относился с большим недоверием, однако после неоднократных бесед с Антоновым и после того, как он сам побывал на складе и лично убедился в образцовом порядке хранения и отпуска материалов, который этот мальчишка сумел установить, а также и в том, что Алёшкин относился к порученному делу с энтузиазмом и чувством ответственности, своё мнение о нём переменил.
На совещании коммерческого отдела в конце первого месяца работы Бориса, Черняховский хвалил его и ставил в пример заведующим другими складами.
Через некоторое время о Борисе Алёшкине, как о способном молодом работнике, узнал член правления треста, ведавший вопросами финансов и снабжения, а следовательно, и коммерческим отделом, некто Мерперт. Он пожелал увидеть Бориса. Побеседовав около часа и убедившись, что этот молодой человек достаточно грамотен, неплохо знает лесное дело и, по-видимому, обладает незаурядными организаторскими способностями, пообещал ему, что если он и дальше так будет работать, то на лесном складе надолго не задержится, а получит более высокую должность.
В партячейке Алёшкина, как единственного молодого из имевшихся коммунистов, прикрепили к комсомольской ячейке, вскоре избрали и секретарём этой ячейки. В то время она насчитывала всего 15 человек, её члены работали в основном учениками в бухгалтерии, в плановом, финансовом отделе, курьерами, и только двое делопроизводителями. Забегая вперёд, скажем, что, несмотря на состав комсомольской ячейки треста почти полностью из служащих, занимавших незначительное положение, благодаря её активной работе она стала вскоре пользоваться большим авторитетом. Проводимые налёты её «лёгкой кавалерии» бросали в неприятную дрожь не одного из бывших хозяйчиков-рыбопромышленников, пригревшихся на той или иной должности в тресте и пытавшихся использовать своё служебное положение в корыстных целях.
Естественно, что вместе с ростом авторитета комсомольской ячейки поднимался авторитет и её вожака, секретаря Алёшкина. Но это было в недалёком будущем, пока же он исправно работал, активно выступал на собраниях ячейки, принимал участие в политучёбе при партячейке и всё глубже начинал понимать сущность переживаемого нашей страной периода.
В то же время он отчаянно скучал: не было Кати, его Кати! Жизнь без неё ему казалась пустой, серой, а иногда просто ненужной. Правда, на работе он мог шутить, смеяться и даже ухаживать за многочисленными девицами и дамами, служившими в аппарате треста, но оставшись наедине с собой, он немедленно впадал в чёрную меланхолию, иногда настолько глубокую, что был готов бросить всё и мчаться в Шкотово к своей милой Катеринке.
Однажды, вероятно, недели через две после Катиного отъезда, когда часов в восемь вечера, после очередной неудачи в поисках квартиры, Борис грустно шагал по Китайской улице, решив оставшуюся часть пути до дома пройти пешком, он буквально нос к носу столкнулся с человеком, которого менее всего ожидал встретить во Владивостоке:
– Пся крев! Да ведь это же Борис Алёшкин, прошу пана! Цо ты тутай робишь? До конт идешь? – торопливо заговорил встреченный им человек, мешая в вопросах польские и русские слова.
Борис с изумлением узнал Томашевского – десятника, вместе с которым и Демирским он так отлично жил в маленьком домике в районе Стеклянухи.
А тот, заметив расстроенное Борисово лицо, продолжая держать его за плечи, расспрашивал:
– Да цо тебе стало? Цо таки смутны? Повьедзь ми, я же друг!
Поляк, полуобняв Бориса, двинулся вместе с ним обратно, по направлению к Куперовской пади, откуда он только что шёл.
«Томашевский – человек в городе чужой, вероятно, находится здесь проездом. Ещё в Стеклянухе он говорил, что, как только заработает немного денег, сейчас же поедет на родину, в Польшу. По всей вероятности, он начал свой путь», – подумал Алёшкин.
Борису, совершенно разочаровавшемуся в поисках квартиры, было уже всё равно: он так тосковал без Кати, что даже этому чужому, в сущности, человеку рассказал и о своей женитьбе, и о квартире, и о том условии, которое ему поставила молодая жена.
Из сбивчивого рассказа Бориса Томашевский, видимо, не всё понял – он не очень хорошо знал русский язык, а Борис в волнении забыл это и в основном говорил по-русски.
Томашевский некоторое время молчал, недоумённо посматривая на собеседника, и соображал, что же собственно так огорчило его – то ли женитьба, то ли ещё что-нибудь? Однако он ясно видел, что у Бориса на самом деле на душе скверно, а так как испытывал к нему дружеские чувства, то решил попытаться лучше понять причину плохого настроения товарища и по возможности помочь ему, хотя, откровенно говоря, времени у него было в обрез. Он, как и предполагал Борис, действительно уже следовал в Варшаву. Отвезя ещё утром свой небольшой багаж на вокзал, Томашевский только что рассчитался с квартирной хозяйкой и сейчас направлялся к поезду.
– Почекай, почекай, – вновь заговорил он, – я что-то не разуме: цо то таке «проходная комната»?
Борис, используя свой небольшой запас польских слов, попытался ему объяснить, что это комната с двумя дверями, через которую проходят хозяева. Тут Томашевский вдруг расхохотался:
– Так то, значит, пшеходны покоик! Так-так, значит, ты, Борис, такий клеп, что надумал свою малженку в першую же ночь в пшеходном покоике уложить? Да як же ты её намувить смог? Напевно и она у тебе така же детско, яко и ты сам. Ну и дзизак ты! И зарас ты, балван такой, ещё на неё обижаешься! Сам умудрился наброить як безразумный фафута, и сам же злишься. Эх, ты! Скажи ещё ей спасибо: друга тебе бы ланцухов надавала… Да, наробил ты глупств, цо ж с тобой зараз робить? А-а! Почекай я тоби допомогу! Моя хозяйка полячка, у неё моя избка свободна. Правда, она примует тылько поляков, но ты ведь разуметь по-польску, а если не добже размавишь, то я скажу: длуго жил в России, забув. Ты тылько молчи, добже! Пуйдем прендзей, я мам мало часу! – и подхватив под руку ошеломлённого Бориса, Томашевский быстро зашагал с ним не в сторону кладбища, куда уже было начал сворачивать Борис, а влево и вниз, в самый центр Куперовской пади.











