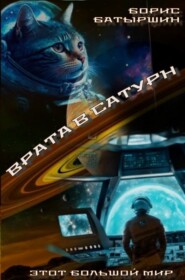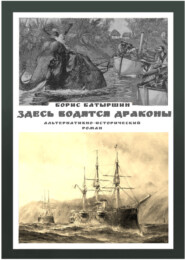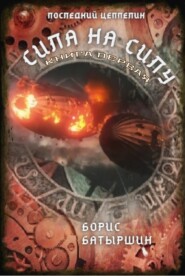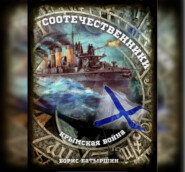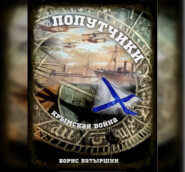По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шпага для библиотекаря. Книга 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нацеди ему своей… – приказал Ростовцев. – И не жадничай, он ведь сказал обо всём, что было спрошено – пусть хоть получит напоследок облегчение.
Ординарец с сомнением посмотрел на француза, но спорить с барином не стал – присел и поднёс жестяной стакан от манерки к губам умирающего. Тот что-то пролопотал и попытался сделать глоток. Пахнущая сивухой жидкость потекла по губам, по подбородку.
Пленник действительно ответил на все вопросы. Он оказался бригадиром-фурьером шестнадцатого конно-егерского полка первой дивизии лёгкой кавалерии Люилье. Будучи отряжёнными с командой фуражиров, они с товарищем были посланы на разведку, но заплутав, напоролись на Ростовцева и его спутников. С известным уже результатом.
– Кончился, вашбродие… – сообщил Пархомыч, вставая. Он стащил с головы бескозырку и широко, истово перекрестился. Корнет, после секундной паузы, последовал его примеру.
– Оттащи трупы в кустики, поймай его лошадь, – Ростовцев кивнул на застреленного прапорщиком конного егеря, – и едем дальше.
– А как же похоронить? – поднял брови Вревский. – Это же христиане, как и мы!
– В армии Бонапарта каждый второй атеист. – буркнул в ответ Ростовцев. – Закапывать их – это ж, сколько времени уйдёт? И лопат у нас нет, саблями прикажете землю ковырять? Да и не в этом дело, барон – до Бобрищ отсюда вёрст десять, не больше, и как бы эти фуражиры туда раньше нас не добрались…
V
Под ярким – не по-зимнему ярким! – солнцем сугробы таяли, оседали буквально на глазах. Обычно весенний снег гораздо дольше противостоит солнечным лучам, но там дело идёт о слежавшемся, заледеневшем, местами чёрном от грязи слое толщиной в десяток сантиметров. Этот же был девственно белым, лёгким, пушистым, потому что навалило его меньше суток назад – да и солнышко палило куда злее мартовского, что вместе с пропылённой листвой на той стороне дороги наводили на мысль скорее, об августе или сентябре.
Я отошёл от окна. Ребята и девчонки сгрудились у радиолы. Из матерчатых динамиков неслось «… пш-ш-ш… виу-виу-виу……пш-ш-ш…» – концерт для атмосферных помех без оркестра. Плохо дело – хотя, если бы оттуда лилась лающая немецкая речь или прерываемые радиопомехами сводки Совинформбюро, было бы гораздо хуже. А так – можно, во всяком случае, не опасаться, что на пропылённый по-летнему просёлок выкатятся панцеры генерала Гота, а вслед за ними – похожие на гробы «ганомаги», доверху забитые весело гомонящими белобрысыми парнями с закатанными до локтей рукавами полевого фельдграу. Октябрь той страшной осени выдался по-летнему тёплым, и я-то знал, что творилось в первых его числах в районе Вязьмы.
И всё же – пресловутая точка бифуркации где-то поблизости. Во всяком случае, там, в серой мути, мне об этом ясно дали понять.
Стоп. А с чего я решил, что мне сказали правду? Или нет, нет, не так: с чего я решил, что мне сказали всю правду? Могли о чём-то ведь и умолчать – для моего же блага, разумеется. Так, как они его понимают.
«…знать бы ещё, кто эти «они»…»
Но вернёмся к моим спутникам, продолжающим коллективное издевательство над безответной радиолой.
Всего нас девять человек – считая меня самого, разумеется. Три девчонки: Мати, темнокожая Далия, и ещё одна, имени не помню… Кажется, она не из студентов – присоединилась к группе за компанию с кем-то из парней. Да, точно, подружка Гены Прокшина…
Сам Гена – сибиряк, из Томска, эдакий крепыш с русым «ёжиком» на круглой голове. Перворазрядник по боксу и самбо. Служил в железнодорожных войсках, дембельнулся старшим сержантом и приехал в Москву, поступать в ВУЗ. Проходной балл не набрал, но его всё равно зачислили: после армии, спортсмен и кандидат в члены КПСС, как тут не взять?
Вон он – яростно крутит ручки настройки. Имени его пассии я не вспомнил, зато в памяти всплыло, что она, кажется, учится в медицинском техникуме, то ли на медсестру, то ли на фармацевта.
Рафик Данелян – ну, с ним-то никаких загадок нет. Армянин, но родом из Азербайджанской ССР – единственный, с кем я поддерживал связь после института. Он даже в гости меня зазвал к своим родителям, в крошечное горное селение недалеко от Степанакерта. Удивительной красоты места – я провёл там восемь дней и надолго прикипел сердцем к этой древней земле.
Я снова побывал там только в девяносто четвёртом, на похоронах. Рафик прошёл первую Карабахскую войну, был тяжело ранен в девяносто втором, потерял обе ноги – и так и не смог оправиться.
«Я знаю, что вы были друзьями. – сказал мне тогда его отец, – Ты только не обижайся, но я правду скажу. Это вы, русские, виноваты: если бы не ваша перестройка, не развал Союза, не было бы войны и мой сын остался бы жив…»
Я ничего не ответил и в тот же вечер уехал домой. Старик, как ни крути, был прав, прав во всём…
Рядом с Рафиком присел на корточки Дима Гнедин. В этом походе, как и я, зарабатывает зачёт по физподготовке. С ним тоже всё ясно: интеллигентный мальчик из хорошей московской семьи, отец – секретарь парторганизации в каком-то НИИ, мать занимает немаленький пост в райисполкоме. Он точно знает, куда идти: карьера в комсомоле, вступление в партию, а дальше… ну, вы понимаете. Попутно Гнедин не брезгует фарцовкой – ну, там солнечные очки, диски, жевательная резинка… В перестройку пойдёт в кооператоры, откроет видеосалон. Потом, в 90-х он круто приподнимется на ваучерной приватизации и чековых аукционах и закончит, как многие ему подобные – от пули киллера на пороге собственного особняка. Прав старина Маркс, период первоначального накопления капитала не ведает таких сопливых понятий, как «гуманизм» и «ценность человеческой жизни».
О руководителе похода я уже упоминал. Он устроился между Гнединым и Далией, словно невзначай положил ладонь алжирке на талию (та, вроде, и не против), и пытается давать советы. Этот тип мне не интересен – если, конечно, не попробует, как и в тот раз, подкатиться к Мати.
И Гжегош Пшемандовский, последний в нашей славной девятке. Как говорится – «по порядку, но не по значению». Стоит в стороне, сложив руки на груди, наблюдает за копошением вокруг радиолы. Насколько я помню, он всегда бы таким… немножко шляхтичем: немногословный, чуточку высокомерный, чуточку ироничный чуточку слишком явно демонстрирует скепсис.
…Я снова встретил Гжегоша в две тысячи пятом, в Чехии, на фестивале по случаю двухсотлетия Аустерлицкой битвы. И – не поверил своим глазам, узнав в ротмистре польских шеволежёров-улан, затянутом в безупречно построенный мундир, институтского однокашника. Выяснилось, что в исторической реконструкции он всего четвёртый год, но успел за это время немало: кроме наполеоники, пошился на польского кавалериста времён «Чуда на Висле» и даже собрал полный комплект на панцирного гусара семнадцатого века. Всё, что полагается: арсенал холодной и огнестрельной «зброи», доспех с крыльями за спиной – такое далеко не всякому по карману. Да, не бедствует пан Пшемандовский, не бедствует – куда до него нам, нищебродам…
Несмотря на общее хобби, возобновления былой дружбы не получилось. Гжегош оказался ярым сторонником идеи «Польши от можа и до можа», отягощённый, к тому же, некоторыми «перегибами», приобретёнными во времена распада Варшавского блока и краха СССР. Не помогло даже, что мы оба были поклонниками Наполеона: «москаль остаётся москалём, – заявил тогда Гжегош, – москалём он, курва мать, и помрёт – и дай-то Езус, швыдче…
На следующий день польские уланы сошлись в сабельной рубке – постановочной, как и всё остальное в фестивальной баталии, – с русскими драгунами. Только вот наша с Гжегошем схватка мало походила на безобидный спектакль – после первых же ударов я понял, что бывший приятель сознательно целит мне в лицо, голову, кисти рук, и клинок отнюдь не сдерживает. Помнится, меня тогда взяло за живое: имея за спиной почти два десятка лет занятий историческим фехтованием, я полагал себя рубакой не из последних, и не Гжегошу с его скромным опытом было со мной тягаться. Так что, не раздели нас круговерть кавалерийской сшибки, дело вполне могло закончиться серьёзными травмами.
Ещё раз мы встретились на биваке, вечером после баталии. Недавние противники предавались обильным возлияниям, крича то «Vive l'Empereur!», то «Ще польска не сгинела!», то витиеватые патриотические тосты за матушку-Россию. Гжегош сделал вид, что ничего не произошло, даже поприветствовал меня слащавой улыбкой – и лишь на самом дне зрачков угадывалась прятавшаяся там неудовлетворённая ярость.
Но всего этого пока нет… или мне только кажется, что нет? Во всяком случае, за всё время учёбы в институте я ни разу не замечал за Гжегошем ничего «великопольского». Что ж, пусть так пока и остаётся, а что до воспоминаний из «прошлой жизни» – кому они сейчас нужны?
– Никита, можно тебя на минутку?
Это тётя Даша. Вчера вечером она помогала девчонкам с подготовкой новогоднего застолья, а потом, часа за полтора до праздничного боя курантов ушла к себе. Мол, «что я у вас, молодёжи, под ногами путаться буду, посижу одна, «Голубой огонёк» посмотрю…». Ага, как же, одна! Я, едва услышал на заднем дворе клуба тарахтение тракторного дизеля, как всё понял.
…я запомнил тётю Дашу по последнему своему визиту, когда ещё застал её живой – маленькая, высохшая, седая, как лунь. Но то было в самом конце восьмидесятых, а сейчас – это вполне свежая пятидесятипятилетняя женщина. Не горбится, говорит живо, и на старческие болезни не жалуется – рано, какие её годы… А ещё у неё имеется «сердечный друг» – механизатор дядя Вася, работающий в том же совхозе. Они сошлись, когда тот, похоронив и оплакав жену, стал искать утешения. Дяде Васе пятьдесят два года от роду, и он тоже ещё вполне-вполне – я как-то видел, как он в одиночку менял заднее колесо трактора, а ведь оно весит хорошо так за центнер. Трактор этот, «пердунок» Т-16, с кузовом впереди кабины, стоит сейчас на заднем дворе ДК, нагруженный тремя двухсотлитровыми бочками соляры. Горючку было велено доставить на птицеферму, для аварийного дизель-генератора. Совхозное начальство решило принять меры по случаю обещанного в сводке погоды снегопада, который может привести к обрывам линии электропередачи.
До пункта назначения в тот вечер дядя Вася так и не доехал, завернул по дороге в ДК, где уже собирались праздновать мы. А там – слово за слово, стакан за стаканом… в общем, сейчас дядя Вася отсыпается в тёткиной комнате, понятия не имея, что творится вокруг.
Его храп я и слышал, когда мы шли по длинному коридору, в который, кроме двери тёткиной комнаты (после смерти мужа она перебралась жить сюда) выходят ещё несколько – кухня, кладовка, кинобудка. Но тётя Даша вела меня к самой дальней, за которой – и это мне тоже было хорошо известно – располагался краеведческий музей.
Любимое детище её покойного супруга, когда тот, выйдя на пенсию с поста директора совхоза, стал заведовать местным домом культуры. По сельским меркам – серьёзный очаг культуры, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты в рамочках, от районного и областного Культпросвета и Вяземского райвоенкомата. Последнее – из-за того, что немалая часть экспозиции посвящена именно Великой Отечественной войне.
Но есть и кое-что другое. Я привычно остановился перед портретом, висящим между окнами, напротив стены сплошь завешанной иконами из сгоревшей в конце сороковых местной церквушки. Надпись на бронзовой табличке гласила «Полковникъ отъ кавалерiи графъ Никтита Ростовцевъ». Ты смотри, тёзка.
С картины смотрел немолодой мужчина в мундире мариупольских гусар, судя по кое-каким деталям – поздний период царствования Николая Первого. Весь увешан крестами, среди которых попадаются и заграничные. Отдельно, на левой стороне груди целая наградная колодка. Три серебряных медали: прусская «медаль для комбатантов 1813–1814 годов», российская медаль «В память Отечественной войны 1812-го года» и медаль «За взятие Парижа 19-го марта 1814-го года».
Если верить поясняющей табличке – портрет помещика, владельца имения, к которому относилась некогда и деревенька Бобрищи. А молодец тёзка, не бегал от войны. Такой иконостас можно собрать, только проливая собственную кровь.
Я пригляделся. На табличке указаны годы жизни: 1789 -13 (25) октября 1854-го года. Последнее, между прочим – не что иное, как дата несчастливого для русской армии сражения при Балаклаве…
Скрежетнул, поворачиваясь в замке, ключ. Я обернулся – тётя Даша отпирала железную дверь, спрятанную за большим стендом с цветными схемами Вяземской операции 1941-го года. Если память мне изменяется, за дверью располагается крошечная кладовка – там, в железном несгораемом ящике хранятся «особые фонды» музея.
Вообще-то, оружия в музее много – от пятидесятимиллиметрового ротного миномёта и «ШКАСа», снятого с самолётной турели, до разномастных винтовок. Каски, ржавые штыки, рубчатые рубашки от гранат – этого добра вообще не счесть. Конечно, всё оружие холощёное – с просверленными газоотводными трубками и стволами, залитыми сталью патронниками и спиленными бойками. А вот «особые фонды» – дело другое. В железном, запирающемся на амбарный замок ящике муж тёти Даши хранил мосинский казачий карабин с клеймом Императорского Тульского оружейного завода, укороченный «милицейский» наган 1925-го года выпуска. Имелись и боеприпасы: две полные обоймы к карабину, упакованные в клиновидные картонные пачки, три нераспечатанные пачки патронов из скверного рыхлого картона с годом выпуска «1939» да дюжины две патронов россыпью. К нагану прилагались четыре коробочки по четырнадцать тупоносых «маслят» в каждой.
Отдельно лежат две «лимонки» и ещё одна, незнакомой системы – похожая на толокушку для картофеля, с нарезанной мелкими ромбиками чугунной рубашкой. Запалы, как положено, вывернуты и лежат отдельно, в промасленных бумажках, стволы в масле, ухоженные, несмотря на видные невооружённым глазом следы износа.
Откуда такое богатство, нигде, кстати, не зарегистрированное? Тоже мне, вопрос! «Васенька с ними партизанил и вот, решил сохранить. – объяснила тётка, когда однажды решила посвятить племянника в тайну «особых фондов». – Хотел поначалу охолостить, как прочие стволы из экспозиции, но рука не поднялась. Проверка, обнаружится? А кто проверять-то будет? Он член партии, орденоносец, на отличном счету, с участковым Вась-Вась…»
Но сегодня её – как и меня, впрочем, – интересуют совсем другие вопросы.
– Как думаешь, племянник, что такое на улице творится? Лето посреди зимы, склады совхозные куда-то сгинули, телефон не отвечает, я проверяла.
«…значит, и телефон тоже? Я-то признаться, про него забыл…»
Я пожал плечами.
– Понятия не имею, тётьДаша. Есть предположение, но боюсь говорить – уж больно звучит… бредово.
– А ты не бойся. – подбодрила она меня. – Небось, не укушу.
– Если вкратце… вы читали Марка Твена, «Янки при дворе короля Артура»?