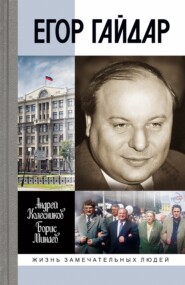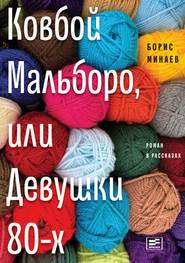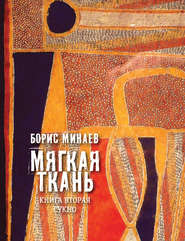По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Площадь Борьбы
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что случилось, Сергей Яковлевич? – спросил Даня, не выдержав этой гнетущей тишины.
– Даже не спрашивайте.
В темноте скорбно белело лицо ответственного секретаря газеты «Московский большевик», и хотя черты этого лица едва угадывались, Даня понял: у Куркотина неприятности, и пожалел его про себя.
– Я приезжаю на дачу, в пятницу… Ну, в Удельную. Как всегда, на ночь глядя, в городе же у меня много дел, освобождаюсь поздно. Готовим антивоенный митинг в Парке Горького, выступления писателей. Кстати, приглашаю вас с супругой. В следующее воскресенье. Там бывает интересно, очень яркие боевые выступления. Так вот, приезжаю уже в темноте, и что же вы думаете?..
Он горестно вздохнул.
Когда Куркотин сильно волновался, в голосе его явно начинали слышаться родные южно-русские интонации. Одесса, Николаев, Харьков. Может быть, Даня полюбил его за это? Больше было не за что…
– И что вы же думаете… – Куркотин нервно прошелся по крыше, загрохотало кровельное железо, все оглянулись, он остановился испуганно и как-то неуверенно, жалко оглянулся на Даню.
– Я раньше дачу всегда недолюбливал, а тут, понимаете, подхожу и сердце сжалось, прямо вот сдавило: все, и дом, и сарай, и забор – все вроде цело, но в заборе выломано два проезда, как ворота для телеги или для грузовика, из дома все вытащено, все разграблено, остались только одна кровать без матраса на втором этаже и простые столы да мой канцелярский стол, вот и все, причем, что интересно, негодяи хулиганили, часть посуды побили, осколки валяются между грядок, а я же, как вам сказать, я же приезжал и чтобы придать этому делу какое-то осмысленное выражение, ну, я доставал садовый инструмент, тут окопаешь, тут прикроешь, холода же уже, и вот, достаю из сарая инструмент, начинаю окапывать, окапываю и плачу, окапываю и плачу, вот нет сил сдержаться, Даниил Владимирович, верите ли…
Куркотин всхлипнул.
Он плакал тихо, скромно – так, чтоб никто не слышал и не видел, Даня же в этот момент испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, это был стыдный момент – они стояли на крыше в ожидании налета, бомбежки, враг подходил к Москве, тяжелая зима наступала в столице, война уже сейчас отнимала миллионы жизней, и хотя об этом не говорили по радио, не называли цифр, слухи ползли по городу, и каждый раненый, каждый прибывший с фронта рассказывал – вполголоса – о кошмаре первых месяцев, о гибели и пленении едва ли не большей части армии, а тут человек стоит и плачет о каких-то дурацких вещах, вынесенных с дачи, о постельном белье, посуде, всяких безделушках, но Даня почему-то хорошо понимал его: страшна именно та беда, которую не ждешь, и вот это ощущение человеческой подлости, совершенно неминуемой, – все это было понятно, он приобнял Куркотина за плечи и тихо велел замолчать.
И тот испуганно замолк.
На работе теперь часто объявляли внеочередные собрания, люди выходили в коридор, курили торопливо, спрашивая друг друга, а что случилось, и понуро шли в актовый зал, где висели огромные портреты Сталина и Молотова и где постоянно что-то докладывали, объясняли и провозглашали. Впрочем, многим это нравилось, люди с удовольствием бросали работу и, оживленно переговариваясь, шли слушать новости.
На одном из собраний (это было, кажется, в сентябре) объявили, что начинается сбор народных средств для танковой колонны «Красный текстильщик». Каждый сдает в оборонный фонд сколько может, но потом все отделы обошла секретарь Аглая Семеновна и пояснила, что меньше тысячи рублей нельзя, это «нижний предел», начальник их отдела хвастливо объявил, что сдает четыре тысячи, «все свои сбережения», – врет, подумал Даня, но ничего не сказал и после работы пошел в сберкассу.
На книжке лежало девять тысяч. Даня решил, что снимет ровно тысячу, потом вздохнул и снял две.
Уже пошли неприятные слухи об эвакуации всех подразделений Наркомлегкпрома. Шепотом (паника – дело подсудное) обсуждали, действительно ли придется уезжать из Москвы. Начальника, который сдал аж четыре тысячи, в первом отделе ознакомили с генеральным планом эвакуации – в той части, что касалась их ведомства.
Он пришел жутко мрачный и ни с кем не разговаривал целый день. Все поняли, что дело серьезное, в дальнейшем стало известно, что в плане обозначили точку – Барнаул.
Даня твердо решил про себя, что оборонный займ – дело правильное, хорошее, но больше двух тысяч он не даст, потому что, по всей видимости, семью скоро придется обустраивать на новом месте. Хоть какие-то наличные деньги с собой иметь нужно.
К тому же он хорошо помнил оборонный займ первой германской войны, этот прекрасный патриотический порыв, и как люди покупали царские облигации. Эти красочные плакаты, агитирующие их покупать – тогда, в 1914 году, на глаза общества впервые явилась Родина-мать с распущенными волосами, тогда она, правда, звалась на плакатах по-другому: «Россия» – и была одета в нарядное платье, но он помнил, как отец бережно считал эти облигации военного займа и потом прятал их в комод.
Ничего не пригодилось. Ни займы, ни мобилизации, ничего. И войну проиграли. Правда, выиграли затем революцию…
Но тем не менее в профкоме выделили некоего человека по фамилии Свиридов, который, начиная с 15 сентября, снова стал собирать деньги на танковую колонну «Красный текстильщик». Этот Свиридов был маленький, в коротком пиджачке, стоптанных штиблетах, он бочком заходил в их отдел и, поправляя галстук-селедку, тихо и как бы просительно предлагал сдавать деньги. Когда он подходил к столу товарища Каневского, Даня так же тихо, с тем же выражением настойчивой просительности отвечал Свиридову:
– Я уже сдал две тысячи на «Красный текстильщик», посмотрите в записях, пожалуйста.
– Ой, сдали, правда? – изумлялся Свиридов и начинал смертельно долго листать свой пухлый блокнот, испещренный записями.
– Да-да, да-да… действительно, – с выражением крайнего удовлетворения говорил он и потом спрашивал еще тише: – А на следующий «Красный текстильщик» не хотите, значит?
– Я позже сдам, – твердо говорил Даня и утыкался в бумаги.
Как-то раз в столовой Даня подсел к главному бухгалтеру Виктору Матвеевичу и спросил, что он думает насчет того, как учитываются эти средства и как узнать конкретно, на какой танк или самолет что потрачено.
Виктор Матвеевич испуганно оглянулся.
– Да бог с вами… – наконец сказал он тихо. – У вас же такой профессиональный опыт. Никто там не считает, красный текстильщик или юный ленинец. Ваши там деньги или чьи-то еще. Это всего лишь конфискационный налог. Без этого сейчас нельзя. Нельзя допустить инфляцию, понимаете? Иначе из магазинов исчезнет последнее.
Между тем Свиридов все никак не успокаивался, и было видно, что в этом тщедушном скромном человеке загорелись подлинные страсти и в душе его кипела настоящая буря, может быть, потому, что впервые в жизни он выполнял такое важное и ответственное поручение партии и правительства.
И больше того, в отказе Дани он видел не просто отказ, с кем не бывает, а попытку отнять у него эту важную миссию, обесценить ее в глазах коллектива, унизить его человеческое достоинство, поднявшееся теперь на небывалую высоту.
– Так что, товарищ Каневский, вы по-прежнему в займе не участвуете? – теперь спрашивал он, войдя в кабинет и приняв некую позу, наподобие той, что принимает футболист, готовясь пробить пенальти – нагнувшись и глядя исподлобья.
– Товарищ Свиридов, всему свое время! – улыбаясь, говорил Даня, но внутри у него все дрожало от нервного гнева. Ну какой же паршивец.
Не выдержав, он рассказал об этом Наде, и та, смертельно напугавшись, строго-настрого велела ему немедленно снять со счета оставшиеся семь тысяч и отдать их на «Красный текстильщик», иначе будут неприятности.
У Дани порой случались странные, неожиданные реакции на бурные выражения ее чувств – страха, гнева или веселости, – он как-то внутренне замирал и пытался «поймать секунду», так он называл это про себя. В ней, в этой самой секунде, все было прекрасно – и эта белая сорочка, спадавшая с плеча, и глаза, сверкавшие, как угли, в темноте, и волосы, рассыпанные по плечам, и главное, вот это ощущение общего уюта, бедного, но родного, который растекался по жилам – все эти выглаженные салфеточки, уютно пахнущие пряностями комоды, тарелки, видневшиеся из-за витражного стекла, ходики, тикавшие над головой, – все это вместе рождало в нем ощущение немыслимого покоя, всегда животворно действующее на душу, истомившуюся в поисках смысла, и он смеялся над ней, обнимал и успокаивал как мог.
Потом она засыпала, сначала вытирая слезы по щекам, заставляя его пить капли валерианы, ходила, шаркая тапочками, и вновь успокаивалась, а он долго лежал в темноте этой комнаты, служившей им и спальней, и гостиной, и кабинетом (в другой комнате спали трое их детей), – и думал о том, что же ждет их впереди.
Не то чтобы он прислушивался к Надиным советам, но всегда имел их в виду.
Вот и тогда, в сентябре сорок первого года, он все-таки решил снять все деньги со счета и большую их часть отдать на «Красный текстильщик-2», денежная конфискация так денежная конфискация, как вдруг произошло неожиданное – оказалось, что Свиридов погиб при бомбежке.
Взрыв на площади Ногина не остался так ярко вписанным в анналы московского героизма, как другие какие-то эпизоды обороны, наверное, потому, что в нем не было воинского подвига, – это было большое горе, ограниченное в себе самом: тогда образовалась огромная воронка и вокруг все было в кровавой грязи, в обломках небольших зданий…
Так случилось, что личный состав практически всех противопожарных расчетов (то и есть и Даню, и Куркотина, и всех их товарищей) прислали на «санитарную обработку» района бомбежки, им выдали лопаты, носилки, нехитрые респираторы, ведра, и они таскали грязь с развалин в течение пяти часов, иногда подзывая санитаров, если видели человеческие останки.
Куркотина пару раз вырвало, но Даня держался…
В конце они уже ничего не соображали от усталости и разъехались по домам в унылом молчании. Даня лег на кровать, не раздеваясь, и заснул. Надя молча сняла с него грязные ботинки и попыталась подоткнуть хотя бы сбоку старым покрывалом, чтобы он не пачкал белье.
Все то время, все пять часов, пока Даня таскал на носилках мусор, выворачивал из земли залепленные грязью бревна и отгонял прохожих, некоторые из которых искренне плакали, он непрерывно думал об этом Свиридове и почему именно так получилось. Он, правда, погиб не совсем здесь, бомба попала прямо в горком партии, но сейчас это была одна общая воронка, общая яма.
И опять эта глупая мысль сидела в башке – а может, Свиридов погиб вместо него?
Таких людей Даня не любил – они всегда слепо подчинялись воле большинства, а иногда не только слепо, но и радостно, испытывая восторг или злорадное торжество, когда казнили и уничтожали кого-то другого, они жили в мире странных слов, выученных ими невесть где, они трудно думали и говорили чужими фразами, но сейчас, разгребая завалы на площади Ногина, Даня не то что устыдился этих своих старых мыслей, он подумал о Свиридове по-другому – все-таки у него, где-то глубоко внутри, было чувство собственного достоинства. И потом (Даня это знал), у него была семья, он ею гордился, женой и маленькой дочерью, и потом (Даня впервые об этом задумался), у Свиридова был в глазах какой-то проблеск, какая-то вера в человечество, когда он шел по коридору со своими бумажками и собранными на строительство танковой колонны «Красный текстильщик» чужими рублями, а теперь этого ничего нет, и возможно, вот этот страшный ком глины с торчащими из него рваными ботинками – это все, что осталось от Свиридова.
Даня сдал все деньги, какие у него были, и попросил Надю что-то продать на барахолке, чтобы было что-то на черный день.
И она продала мамино столовое серебро. Не все, но кое-что. И еще мамину брошь.
В те же сентябрьские дни Данин старый друг еще по Одессе – Иван Петрович Гиз – твердо решил пойти в московское ополчение. Он работал в системе Наркомпроса, был методистом и там же был парторгом. Гиз позвонил Дане по служебному телефону и пригласил зайти к нему домой попрощаться. Каневский сел на трамвай и поехал на Потылиху.
– Даже не спрашивайте.
В темноте скорбно белело лицо ответственного секретаря газеты «Московский большевик», и хотя черты этого лица едва угадывались, Даня понял: у Куркотина неприятности, и пожалел его про себя.
– Я приезжаю на дачу, в пятницу… Ну, в Удельную. Как всегда, на ночь глядя, в городе же у меня много дел, освобождаюсь поздно. Готовим антивоенный митинг в Парке Горького, выступления писателей. Кстати, приглашаю вас с супругой. В следующее воскресенье. Там бывает интересно, очень яркие боевые выступления. Так вот, приезжаю уже в темноте, и что же вы думаете?..
Он горестно вздохнул.
Когда Куркотин сильно волновался, в голосе его явно начинали слышаться родные южно-русские интонации. Одесса, Николаев, Харьков. Может быть, Даня полюбил его за это? Больше было не за что…
– И что вы же думаете… – Куркотин нервно прошелся по крыше, загрохотало кровельное железо, все оглянулись, он остановился испуганно и как-то неуверенно, жалко оглянулся на Даню.
– Я раньше дачу всегда недолюбливал, а тут, понимаете, подхожу и сердце сжалось, прямо вот сдавило: все, и дом, и сарай, и забор – все вроде цело, но в заборе выломано два проезда, как ворота для телеги или для грузовика, из дома все вытащено, все разграблено, остались только одна кровать без матраса на втором этаже и простые столы да мой канцелярский стол, вот и все, причем, что интересно, негодяи хулиганили, часть посуды побили, осколки валяются между грядок, а я же, как вам сказать, я же приезжал и чтобы придать этому делу какое-то осмысленное выражение, ну, я доставал садовый инструмент, тут окопаешь, тут прикроешь, холода же уже, и вот, достаю из сарая инструмент, начинаю окапывать, окапываю и плачу, окапываю и плачу, вот нет сил сдержаться, Даниил Владимирович, верите ли…
Куркотин всхлипнул.
Он плакал тихо, скромно – так, чтоб никто не слышал и не видел, Даня же в этот момент испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, это был стыдный момент – они стояли на крыше в ожидании налета, бомбежки, враг подходил к Москве, тяжелая зима наступала в столице, война уже сейчас отнимала миллионы жизней, и хотя об этом не говорили по радио, не называли цифр, слухи ползли по городу, и каждый раненый, каждый прибывший с фронта рассказывал – вполголоса – о кошмаре первых месяцев, о гибели и пленении едва ли не большей части армии, а тут человек стоит и плачет о каких-то дурацких вещах, вынесенных с дачи, о постельном белье, посуде, всяких безделушках, но Даня почему-то хорошо понимал его: страшна именно та беда, которую не ждешь, и вот это ощущение человеческой подлости, совершенно неминуемой, – все это было понятно, он приобнял Куркотина за плечи и тихо велел замолчать.
И тот испуганно замолк.
На работе теперь часто объявляли внеочередные собрания, люди выходили в коридор, курили торопливо, спрашивая друг друга, а что случилось, и понуро шли в актовый зал, где висели огромные портреты Сталина и Молотова и где постоянно что-то докладывали, объясняли и провозглашали. Впрочем, многим это нравилось, люди с удовольствием бросали работу и, оживленно переговариваясь, шли слушать новости.
На одном из собраний (это было, кажется, в сентябре) объявили, что начинается сбор народных средств для танковой колонны «Красный текстильщик». Каждый сдает в оборонный фонд сколько может, но потом все отделы обошла секретарь Аглая Семеновна и пояснила, что меньше тысячи рублей нельзя, это «нижний предел», начальник их отдела хвастливо объявил, что сдает четыре тысячи, «все свои сбережения», – врет, подумал Даня, но ничего не сказал и после работы пошел в сберкассу.
На книжке лежало девять тысяч. Даня решил, что снимет ровно тысячу, потом вздохнул и снял две.
Уже пошли неприятные слухи об эвакуации всех подразделений Наркомлегкпрома. Шепотом (паника – дело подсудное) обсуждали, действительно ли придется уезжать из Москвы. Начальника, который сдал аж четыре тысячи, в первом отделе ознакомили с генеральным планом эвакуации – в той части, что касалась их ведомства.
Он пришел жутко мрачный и ни с кем не разговаривал целый день. Все поняли, что дело серьезное, в дальнейшем стало известно, что в плане обозначили точку – Барнаул.
Даня твердо решил про себя, что оборонный займ – дело правильное, хорошее, но больше двух тысяч он не даст, потому что, по всей видимости, семью скоро придется обустраивать на новом месте. Хоть какие-то наличные деньги с собой иметь нужно.
К тому же он хорошо помнил оборонный займ первой германской войны, этот прекрасный патриотический порыв, и как люди покупали царские облигации. Эти красочные плакаты, агитирующие их покупать – тогда, в 1914 году, на глаза общества впервые явилась Родина-мать с распущенными волосами, тогда она, правда, звалась на плакатах по-другому: «Россия» – и была одета в нарядное платье, но он помнил, как отец бережно считал эти облигации военного займа и потом прятал их в комод.
Ничего не пригодилось. Ни займы, ни мобилизации, ничего. И войну проиграли. Правда, выиграли затем революцию…
Но тем не менее в профкоме выделили некоего человека по фамилии Свиридов, который, начиная с 15 сентября, снова стал собирать деньги на танковую колонну «Красный текстильщик». Этот Свиридов был маленький, в коротком пиджачке, стоптанных штиблетах, он бочком заходил в их отдел и, поправляя галстук-селедку, тихо и как бы просительно предлагал сдавать деньги. Когда он подходил к столу товарища Каневского, Даня так же тихо, с тем же выражением настойчивой просительности отвечал Свиридову:
– Я уже сдал две тысячи на «Красный текстильщик», посмотрите в записях, пожалуйста.
– Ой, сдали, правда? – изумлялся Свиридов и начинал смертельно долго листать свой пухлый блокнот, испещренный записями.
– Да-да, да-да… действительно, – с выражением крайнего удовлетворения говорил он и потом спрашивал еще тише: – А на следующий «Красный текстильщик» не хотите, значит?
– Я позже сдам, – твердо говорил Даня и утыкался в бумаги.
Как-то раз в столовой Даня подсел к главному бухгалтеру Виктору Матвеевичу и спросил, что он думает насчет того, как учитываются эти средства и как узнать конкретно, на какой танк или самолет что потрачено.
Виктор Матвеевич испуганно оглянулся.
– Да бог с вами… – наконец сказал он тихо. – У вас же такой профессиональный опыт. Никто там не считает, красный текстильщик или юный ленинец. Ваши там деньги или чьи-то еще. Это всего лишь конфискационный налог. Без этого сейчас нельзя. Нельзя допустить инфляцию, понимаете? Иначе из магазинов исчезнет последнее.
Между тем Свиридов все никак не успокаивался, и было видно, что в этом тщедушном скромном человеке загорелись подлинные страсти и в душе его кипела настоящая буря, может быть, потому, что впервые в жизни он выполнял такое важное и ответственное поручение партии и правительства.
И больше того, в отказе Дани он видел не просто отказ, с кем не бывает, а попытку отнять у него эту важную миссию, обесценить ее в глазах коллектива, унизить его человеческое достоинство, поднявшееся теперь на небывалую высоту.
– Так что, товарищ Каневский, вы по-прежнему в займе не участвуете? – теперь спрашивал он, войдя в кабинет и приняв некую позу, наподобие той, что принимает футболист, готовясь пробить пенальти – нагнувшись и глядя исподлобья.
– Товарищ Свиридов, всему свое время! – улыбаясь, говорил Даня, но внутри у него все дрожало от нервного гнева. Ну какой же паршивец.
Не выдержав, он рассказал об этом Наде, и та, смертельно напугавшись, строго-настрого велела ему немедленно снять со счета оставшиеся семь тысяч и отдать их на «Красный текстильщик», иначе будут неприятности.
У Дани порой случались странные, неожиданные реакции на бурные выражения ее чувств – страха, гнева или веселости, – он как-то внутренне замирал и пытался «поймать секунду», так он называл это про себя. В ней, в этой самой секунде, все было прекрасно – и эта белая сорочка, спадавшая с плеча, и глаза, сверкавшие, как угли, в темноте, и волосы, рассыпанные по плечам, и главное, вот это ощущение общего уюта, бедного, но родного, который растекался по жилам – все эти выглаженные салфеточки, уютно пахнущие пряностями комоды, тарелки, видневшиеся из-за витражного стекла, ходики, тикавшие над головой, – все это вместе рождало в нем ощущение немыслимого покоя, всегда животворно действующее на душу, истомившуюся в поисках смысла, и он смеялся над ней, обнимал и успокаивал как мог.
Потом она засыпала, сначала вытирая слезы по щекам, заставляя его пить капли валерианы, ходила, шаркая тапочками, и вновь успокаивалась, а он долго лежал в темноте этой комнаты, служившей им и спальней, и гостиной, и кабинетом (в другой комнате спали трое их детей), – и думал о том, что же ждет их впереди.
Не то чтобы он прислушивался к Надиным советам, но всегда имел их в виду.
Вот и тогда, в сентябре сорок первого года, он все-таки решил снять все деньги со счета и большую их часть отдать на «Красный текстильщик-2», денежная конфискация так денежная конфискация, как вдруг произошло неожиданное – оказалось, что Свиридов погиб при бомбежке.
Взрыв на площади Ногина не остался так ярко вписанным в анналы московского героизма, как другие какие-то эпизоды обороны, наверное, потому, что в нем не было воинского подвига, – это было большое горе, ограниченное в себе самом: тогда образовалась огромная воронка и вокруг все было в кровавой грязи, в обломках небольших зданий…
Так случилось, что личный состав практически всех противопожарных расчетов (то и есть и Даню, и Куркотина, и всех их товарищей) прислали на «санитарную обработку» района бомбежки, им выдали лопаты, носилки, нехитрые респираторы, ведра, и они таскали грязь с развалин в течение пяти часов, иногда подзывая санитаров, если видели человеческие останки.
Куркотина пару раз вырвало, но Даня держался…
В конце они уже ничего не соображали от усталости и разъехались по домам в унылом молчании. Даня лег на кровать, не раздеваясь, и заснул. Надя молча сняла с него грязные ботинки и попыталась подоткнуть хотя бы сбоку старым покрывалом, чтобы он не пачкал белье.
Все то время, все пять часов, пока Даня таскал на носилках мусор, выворачивал из земли залепленные грязью бревна и отгонял прохожих, некоторые из которых искренне плакали, он непрерывно думал об этом Свиридове и почему именно так получилось. Он, правда, погиб не совсем здесь, бомба попала прямо в горком партии, но сейчас это была одна общая воронка, общая яма.
И опять эта глупая мысль сидела в башке – а может, Свиридов погиб вместо него?
Таких людей Даня не любил – они всегда слепо подчинялись воле большинства, а иногда не только слепо, но и радостно, испытывая восторг или злорадное торжество, когда казнили и уничтожали кого-то другого, они жили в мире странных слов, выученных ими невесть где, они трудно думали и говорили чужими фразами, но сейчас, разгребая завалы на площади Ногина, Даня не то что устыдился этих своих старых мыслей, он подумал о Свиридове по-другому – все-таки у него, где-то глубоко внутри, было чувство собственного достоинства. И потом (Даня это знал), у него была семья, он ею гордился, женой и маленькой дочерью, и потом (Даня впервые об этом задумался), у Свиридова был в глазах какой-то проблеск, какая-то вера в человечество, когда он шел по коридору со своими бумажками и собранными на строительство танковой колонны «Красный текстильщик» чужими рублями, а теперь этого ничего нет, и возможно, вот этот страшный ком глины с торчащими из него рваными ботинками – это все, что осталось от Свиридова.
Даня сдал все деньги, какие у него были, и попросил Надю что-то продать на барахолке, чтобы было что-то на черный день.
И она продала мамино столовое серебро. Не все, но кое-что. И еще мамину брошь.
В те же сентябрьские дни Данин старый друг еще по Одессе – Иван Петрович Гиз – твердо решил пойти в московское ополчение. Он работал в системе Наркомпроса, был методистом и там же был парторгом. Гиз позвонил Дане по служебному телефону и пригласил зайти к нему домой попрощаться. Каневский сел на трамвай и поехал на Потылиху.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: