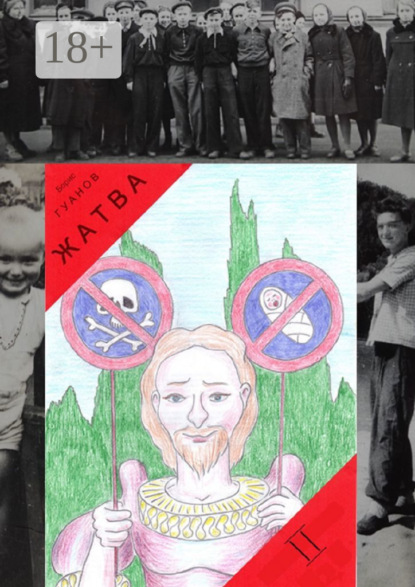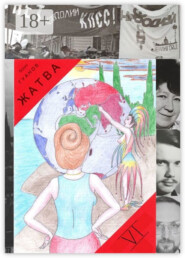По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жатва – II. Зёрна знаний
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Лига арабских стран объявила о преодолении разногласий между суннитами и шиитами, прекращении многовековых братоубийственных распрей и о создании Великого Арабского Халифата в составе всех стран Аравийского полуострова, Магриба и Сахеля, Ирака и Иордании. Правительства Ливана и частично оккупированной Турцией Сирии от вступления в Халифат воздержались. Халиф Алладин заявил, что открывает свои объятия всем мусульманам;
– Под давлением массовых демонстраций правоверных о союзе с Халифатом сообщили правительства Пакистана, Ирана, Индонезии, Албании и Афганистана. Великий Туран занял выжидательную позицию;
– Саудовская Аравия, Пакистан и Иран заявили о предоставлении своих ядерных потенциалов в распоряжение Халифата;
– Усиление партизанско-террористической войны на Северном Кавказе, в Татарстане и Башкирии. Восстание в Синдзяне. Гражданские войны в Нигерии, Эфиопии, Заире, Танзании, Кении, Гане и многих других африканских странах с существенной долей мусульманского населения;
– Халифат предостерёг о том, что любое вмешательство Запада, Китая и России в гражданские конфликты против мусульман приведёт к превентивному применению ядерного и химического оружия;
– Массовая эмиграция евреев из Израиля в США;
– Страны Восточной Европы: Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Словения, Македония, Хорватия, Греция и Монтенегро исключены из Евросоюза за систематические нарушения европейских норм в области прав человека и финансовой области;
– Запуск первых термоядерных реакторов в США и Евросоюзе. Запад заявляет о прекращении своей зависимости от экспорта углеводородов;
– Американские космические аппараты не обнаружили никаких признаков жизни на спутниках Юпитера и Сатурна.
Когда он снял вторую печать:
…и вышел другой конь, рыжий;
и сидящему на нём дано взять мир с земли,
и чтобы убивали друг друга;
и дан ему большой меч.
(Апокалипсис. Гл.6 п.п.3,4)
2.2. Я рос, как вся дворовая шпана
2.2.1. Мелочь Гороховая
Моё золотое детство:
– первая случайная связь;
– «пить, курить и говорить я выучился одновременно»;
– баба Фима с Барсиком;
– старт гонки длиною в жизнь;
– первые грибы.
На одной из первых моих фотографий – весна 1946 года, где я прогуливаюсь с какой-то интересной дамой, увы, давно забытой. Мои первые детские впечатления связаны с двором на Гороховой улице, дом 12, где я с мамой, папой и бабушкой Фимой жил до конца 1952 года в отдельной квартире, вернее, в небольшой комнатке, отгороженной от квартиры жены папиного дяди – Александры Фёдоровны, тёти Шуры, и её дочки Ольги Ивановны, тёти Оли. Эта квартира анфиладного типа, вытянутая в одну линию, имела парадный и чёрный ход, причем нам достался парадный.
У тёти Оли был муж с удивительным именем – Серафим Аполлонович – и сыновья: Василий – военный лётчик – и Виктор, который занимался парусным спортом, ходил на яхтах. По вечерам у них собирались старые друзья, и они играли в «козла» – какую-то старую карточную игру. Телевизоров-то не было. Я совсем не помню обстановку нашей комнаты, зато в квартире тёти Оли мне запомнились огромная картина в резной раме, висящая над диваном и изображающая зимний пейзаж в голландском духе, видимо, модная до революции копия фирмы Декамен, высоченное зеркало, тоже всё в резьбе, резные деревянные панели с охотничьими трофеями – зайцами и косулями, шторы на окнах и дверях с ламбрекенами и с кисточками.
По контрасту с этими остатками прежней роскоши в кухне и в большом тамбуре на входе стояли в несколько этажей клетки с белыми красноглазыми крысами, которых из-за нужды разводили для медицинских исследовательских учреждений. Меня предупреждали: «Не суй пальчик в клетку – кусят!». От этих крыс и от старой пыльной мебели в квартире стоял специфический запах (пылесосов ведь тоже не было).
Так как вся эта квартира располагалась на первом этаже, я часто вылезал во двор прямо через окно. Помню, как на зиму папа вставлял в окна вторые рамы, забивал и заклеивал щели полосками из газет. Потолки были высокие, так что на Новый Год папа приносил самые высокие ёлки.
Первый этаж сыграл роковую роль в благосостоянии нашей семьи. Дед Фёдор оставил немало золота и столового серебра, заработанного ещё в «мирное время», то есть до первой мировой. Бабушке Фиме досталось ещё кое-что и от Романовского, который умер вскоре после эвакуации из блокадного Ленинграда. Она прятала свои сокровища в люстре, а после войны передала всё это золотишко-серебришко маме. Мама всю жизнь корила себя, что не уберегла это богатство. Хранила она его дома, не особенно пряча. Когда все были на даче, в квартиру забрался какой-то случайный пьяница и всё унёс, причем милиция его быстро поймала, но ничего не вернула. Чего-то требовать, особенно драгоценности, в то время было опасно.
Двор был вымощен булыжником. Дворник в белом фартуке с медной бляхой прибивал пыль водой из шланга, иногда, к общему восторгу, поливая и мелкую дворовую шпану. Порой по утрам во дворе раздавались громкие крики: «Точу ножи!» Это бродячие точильщики со своим станком с ножным приводом зазывали народ. На ночь двор запирался. По Гороховой громыхали черные «эмки» и грузовички-полуторки, иногда цокали копытами ломовые лошади, оставляя кучки навоза, и гремели телеги. По улицам Герцена и Гоголя ползали с характерным воющим звуком деревянные троллейбусы, внутри которых пахло дерматином и подгорелыми щётками электромоторов, и шуршали шинами прямоугольные жёлто-красные автобусы марки «ЗИС».
В то время в центре двора стоял огромный двухэтажный кирпичный дровяной сарай, ведь топили и готовили на дровах. Я помню пленного немца, который, подрабатывая, ошивался в нашем дворе. Отдыхая после доставки очередной вязанки дров на этаж, он в окружении дворовой детворы садился на дровяную кучу и тренькал что-то своё на полене с натянутыми струнами, подыгрывая себе на губной гармошке. Во дворе играли в пристенок свинцовыми битами, а также в казаки-разбойники, бегая по кучам дров.
Помню свою первую шалость, когда я ещё ходил пешком под стол. Во время какого-то праздничного торжества у тёти Оли гости сидели за длинным столом, а я нашёл катушку ниток и под столом опутал ниткой ноги сидящих. За шалости мама награждала меня подзатыльниками, а за какую-то крупную провинность отшлёпала мокрым полотенцем по попе и поставила в угол. Вспоминаю свои горькие слёзы. Папа же вообще никогда не наказывал, только грозился ремешком.
Любимой книжкой была потрёпанная толстая книга русских сказок, а из игрушек запомнился конь-качалка и плюшевый мишка. Родители водили меня в кинотеатр «Баррикада». Я очень боялся дикарей в «Тарзане» и «Пятнадцатилетнем капитане». На лыжах я катался в Александровском саду у Адмиралтейства.
Летом выезжали на дачу – сначала в Прибытково, где-то под Сиверской, а потом – в Старый Петергоф. На фото 1946 года – я с папиросой. Так как в моей семье никто не курил, здесь явно прослеживается дурное влияние Кыки. Помню, встречая родителей с электрички на платформе, я бежал с раскинутыми руками, изображая самолёт. Из техники у меня был скрипучий и тяжёлый трехколесный велосипед с педалями на переднем колесе.
В Старом Петергофе мои родители вместе с семьей Кыки снимали на лето веранду в доме на краю посёлка у старого дворцового парка с вековыми дубами. Я лазал по развалинам дворцовых построек, оставшихся после войны. Там валялось много бомб-зажигалок, гильз от патронов и снарядов, а на полянах между дубами цвели крупные ромашки. Собирали грибы, играли с двоюродной сестрой Ленкой в песочек.
Залив был поблизости, на песчаном мелководье плавали маленькие рыбки-колюшки. Кыка был заядлый рыбак и охотник, на заливе у него была маленькая фанерная лодка-плоскодонка. Он со товарищами браконьерствовали, ловили рыбу бреднем: сетью окружали прибрежные камыши, пугали рыбу вёслами и баграми и вытаскивали сразу по нескольку вёдер рыбы. После одной ночной рыбалки он притащил несколько тазов живых угрей. Они ползали по траве, как змеи, и даже будучи разрезанными на куски, подпрыгивали на горячей сковородке.
Кстати, пищу готовили на примусах и керосинках. Никакого водопровода, конечно, не было, и удобства были во дворе. Спали на раскладушках.
Мама иногда приглашала на дачу подруг из Дома Моделей. С одной вышел конфуз. Это была Валя Баласянц, тоже модельер, притом незамужняя. Яркая армянка с очень широкой улыбкой подняла меня на руки, а я при всех гостях вдруг искренне и громко воскликнул: «Ну, и зубищи-то!». Вот такой я уже был шутник в 1948 году.
В детскую память врезаются сцены, которым взрослые не придают значения. Кыка однажды взял меня в лодку, рыба не клевала, и когда мы гребли по заливу к дому, Кыка вдруг, видно, с досады взял свою двустволку и выстрелил в чайку. Помню эту кровь на белых перьях до сих пор. Но вообще Кыка был очень талантливым и, как бы сейчас сказали, креативным человеком. Ещё в 1952 году (!) он сумел сам, без всякой фотолаборатории сделать цветную фотографию – я с мамой. Характер у Кыки был взрывной, ещё круче, чем у моей мамы.
Кончилась эта летняя петергофская жизнь уже после окончания первого класса. В памяти осталась какая-то челюсть с зубами, которую я нашёл, а после плачущая мама со мной на руках в фанерном кузове горбатого «Москвича». Потом Боткинские бараки, я в отдельной палате, и мама кормит меня вкусным индюшачьим бульоном из термоса. Оказывается, я заболел токсической дизентерией, и мама привезла меня на попутке в больницу уже в безнадёжном состоянии, как сказала толстая врачиха по имени Санна. Но мама, умоляя спасти меня, сказала: «Я шью», – и мигом нашёлся необходимый физиологический раствор. В результате, я остался жив, но мама потом лет десять бесплатно обшивала эту Санну. Невозвратимой потерей в этой истории был наш серый полосатый кот Барсик. Пока я был в больнице, родителям было не до него, он ушел с дачи и не вернулся. Для меня это было большое горе, и мы с бабушкой его оплакали.
2.2.2. Гознак
Беззаботные улыбки перед школой:
– верхом на стуле, как на коне;
– счастливое семейство;
– я с кузиной Ленкой перед Кыкиной вращающейся ёлкой;
– 1-б класс: я, обритый наголо, справа от Марии Семёновны.
В начале того же 1953 года мы переехали на Фонтанку, дом 144 – когда-то ведомственный дом при фабрике «Гознак». Но в первый класс я пошёл, когда мы ещё жили на Гороховой. Моя первая школа №210 – на Невском проспекте, в доме, на котором всю мою жизнь сохранялась надпись «При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Об этой школе у меня осталось одно воспоминание – на новогодний бал мама нарядила меня Снегурочкой. Кроме того, забирая меня из школы, меня часто поили соком в угловом магазине на улице Гоголя. Больше всего я любил томатный, который можно было посолить, предпочитая его даже виноградному. В общем-то, золотое детство у меня было счастливое, и никакой напряженности между родителями я не ощущал, они даже не ругались из-за папиного ангельского характера.
Переезжали в другое жильё тогда обычно путем обмена. Вот мои родители и решили съехаться с Кыкой, обменяв свою комнатку-квартирку и «родовую» однокомнатную квартирку Кыки в Гознаке на двухкомнатную квартиру в том же Гознаке, но в другом корпусе.
Гознак представлял собой целый жилой квартал, примыкающий к фабрике, с красивой чугунной оградой, правда, уже изрядно поломанной в моё время, и жёлтыми корпусами домов для рабочих и служащих, перемежающихся с садиками. Мама рассказывала, что до войны квартал запирался на ночь, и дореволюционный порядок как-то поддерживался – вплоть до ковровых дорожек на лестницах и в коридорах. После войны ничего этого уже не было.
Квартира Кыки, вернее, моего деда Фёдора, была в корпусе для рабочих с коридорной системой и представляла собой вытянутое помещение с одним большим итальянским, полукруглым вверху окном и выходом в общий коридор через кухню. Над кухней нависали антресоли, на которые вела узкая лестница. На антресолях можно было спать, а мы с моей кузиной Ленкой любили там играть в дочки-матери. На фото мы с ней у ёлки, которая вращалась на электромоторе – Кыкина затея. Среди «игрушек», хранившихся на антресолях, мне запомнилась деревянная нога в натуральную величину с коленным суставом и ремешками – протез деда Фёдора. В общий коридор выходили двери полутора десятков таких квартирок. Самыми неприятными местами в этом жилище были общие грязные сортиры типа «очко».
Наша новая «семейная» коммунальная квартира была в корпусе, выходящем торцом на Фонтанку. Она состояла из двух больших комнат площадью 30 и 25 квадратных метров. Семья Кыки заняла большую комнату: у них появилась ещё одна дочка – Ирка, – а мы вчетвером разместились на 25 метрах. Двери комнат выходили на длинный коридор с вечно мокрой от конденсата стенкой, граничащей с улицей. Была общая кухня с четырёхкомфорочной газовой плитой и раковиной с краном холодной воды, маленький туалет и прихожая.