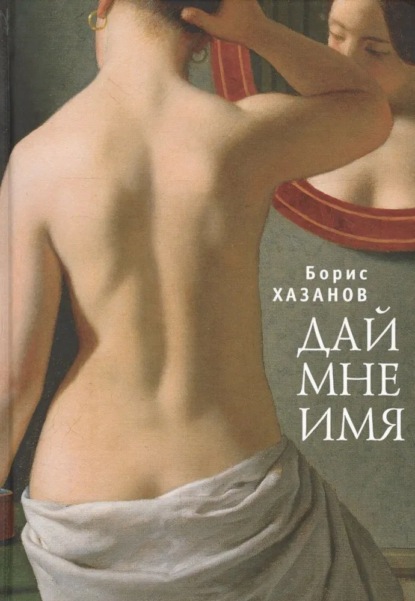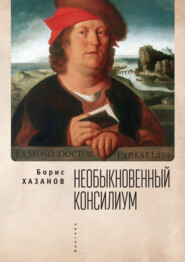По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дай мне имя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я взялся за щеколду, приоткрыл калитку. Предчувствие было так отчётливо, что я остановился и почти что услышал лай лохматого пса, бегущего мне навстречу. Я стоял на крыльце, напрягая слух: в доме ни звука. Похоже, что звонок не работал. Дверь была заперта. Всё же я мог ошибиться – с этой мыслью я вышел на соседнюю параллельную улицу. Мне повезло: я наткнулся на вывеску клуба ветеранов. Отец Леры давно умер.
«А дочь?» Старичок с планкой орденов на пиджаке, заведующий или кто он там был, пожал плечами.
Я хотел ей объяснить, что меня выгнали из общежития за то, что я будто бы устроил в нашей комнате притон разврата, но скорее всего это был повод, чтобы, наконец, меня выселить; что я искал защиты в известном учреждении, но ничего не помогло. Из окна моего номера я мог любоваться рекой, прежде я не видел её с высоты; я находился на десятом этаже, на той самой площади за мостом, которая в моё время ещё хранила следы войны. И теперь, глядя на противоположный берег, набережную, где я любил стоять когда-то, где мы оба стояли, я догадывался, что новый облик города был обманчив, по-настоящему ничего не изменилось, как не изменился, несмотря на перемену всех моих обстоятельств, я сам. И, как в те былые, небывалые времена, вид спокойных, неподвижно-текучих вод примирял меня с жизнью.
Я жил в своей фантазии: в городе, которого нет, с девушкой, которая никогда не существовала.
Гиббоны и облака
Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной дороги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всём участке вплоть до Голутвина никто отродясь не видел контролёров. Тем не менее однажды вечером, в десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного государства.
Произошло это так: в ответ на вопрос контролёра пассажир, улыбаясь, помотал головой и развёл руками. Подошёл второй контролёр, женщина. Поезд нёсся мимо тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы вагона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролёр показывал пассажиру сложенные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного формата в дерматиновой обложке с гербом и короной. Контролёр развернул диковинный паспорт, как ребёнок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядывала через плечо. Контролёр попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.
Иностранный гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где был встречен местным милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица побежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и чесал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей стране. С некоторым остолбенением присутствующие разглядывали фотографию владельца, который был представлен во весь рост, в лазоревом мундире с золотым шитьём и орденами, на фоне пальм.
Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, оттуда последовали неопределённые указания, видимо, там тоже не слыхали о новом государстве, освободившемся от ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, было в газетах: советско-зедангские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы поставить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с органами. Пускай уж там, выше, сами разбираются, наше дело, сказал начальник станции, доложить.
Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, невзирая на поздний час, посольство. По указанию начальника старшина ввёл иностранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе был внесён скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаровательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил глоток и стал крутить телефонный диск.
Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провёл на кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник сидел в своём кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он расхаживает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задребезжал телефон, голос с иностранным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.
Зелёная луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, послышалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только одно ответственное лицо, но зато какое! Военный атташе собственной персоной, с бахромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напоминал швейцара к каком-нибудь шикарном отеле. Ко всеобщей радости оказалось, что атташе превосходно владеет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.
Дрезина, как только высокий гость сошёл на платформу, сама собой тронулась и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зелёный сигнал на красный.
В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трёхзвёздный армянский коньяк, лимон, нарезанный ломтиками, явилась селёдочка, проплыла мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на жидких волосах уборщица Степанида или Аглаида, история не сохранила её точного имени, – с огромной сковородой, на которой журчала глазунья с салом. Под звон стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и их вождей: Генерального секретаря КПСС и Его Величества революционного короля Али-Баба Зеданга Мудрого, а также Его Высочества революционного наследного принца Али-Баба Мухамеда Зеданга, Ещё Более Мудрого. Как это, ещё более? А вот так: каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет Ещё Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» – вскричал военный атташе. Начальник рассыпался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошёл в кабинет. Пир продолжался втроём и оставил по себе самые лучшие воспоминания.
Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанского вокзала, причём атташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся коробке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин королевства Зеданг мурлыкал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину, словно бадью из колодца, будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомкнул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме коммунальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь на защёлку, задвинул задвижку и – уфф! – плюхнулся на диван.
Мундир с регалиями висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, что он не нов. На старом костяном роге – возможно, это был рог единорога – раскачивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», – зевая проговорил эксатташе. – «Успеется; работа не волк». – «А ты, – сказал атташе, – когда-нибудь доиграешься». В ответ коллекционер махнул рукой. – «Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Думаешь, они не догадались?» – «Зачем им догадываться?» – возразил хозяин.
Он был прав: в самом деле, зачем? И ещё много лет спустя начальник станции рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.
В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пузырился желудёвый кофе. Над продавленным диванным ложем штабеля альбомов в массивных переплётах грозили обрушиться вместе с полкой. На почернелом от городской копоти подоконнике стоял аппарат для рассматривания водяных знаков. Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, выполненной в точном соответствии с изображениями на марках. Она обошлась ему в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филателист был нищ, как всякий обладатель сокровищ.
«Ну, я пошёл», – пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер за ним дверь.
Он рассматривал через увеличительное стекло добычу, ради которой было предпринято путешествие в Голутвин, к собрату, доживающему там свои дни. Три недостающих экземпляра. Теперь у филателиста были все двенадцать марок – полная серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Голубошерстные гиббоны, которым была посвящена серия, принадлежали к виду, не известному за пределами сказочных нагорий Зеданга.
Нелишне будет заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то мнимые грамоты, имитации редких монет, знаков военной доблести или знаков почтовой оплаты, есть занятие столь же легитимное, как и собирание подлинников. В некотором высоком смысле поддельный раритет равноправен подлинному. Существуют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с которыми оригинал выглядит беспомощным подражанием. Вышедшая из рук высокоодарённого мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама превращается в оригинал и, в свою очередь, может быть подделана. Но своей вершины искусство изготовления фальсификатов достигает в подделывании несуществующих подлинников.
Большая, во всю стену карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье филателиста, убеждала в том, что эпоха великих географических открытий не закончилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в нагорьях Юго-Восточной Азии и на островах тёплых морей, страна, где не существует смены времён, где царит вечное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии, там были отпечатаны карты и прочее; особый успех выпал на долю почтовых знаков: за короткое время цена их удвоилась. Уже в начале века известный каталог Гизевиуса поместил их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и эта история со временем превратилась в легенду или, лучше сказать, стала малозначительным эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы многое рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске и коварстве его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию кухне.
Магия крошечного цветного квадратика завладела собирателем, словно он выглянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубоватой шерстью животных на разогретой солнцем каменистой тропе.
Дорога
Я писал Историю железных дорог.
Чехов
1. Интродукция
Среди ночи, в кромешной тьме, я проснулся от паровозного свистка, выскочил на перрон, бежал рядом с грохочущими вагонами, протянув руки к поручням, сбил с ног кого-то, мне казалось, перрон с киосками и провожающими едет назад, мне казалось, что я бегу на одном месте; я вскарабкался на тормозную площадку и лишь тогда заметил, что это не тот поезд. Пришлось спрыгнуть, и я кубарем покатился с насыпи. Я смотрел вслед последнему вагону, а оттуда на меня смотрел человек в стеганом бушлате и солдатской шапке-ушанке. В ужасе я понял, что это был тот поезд, что поезд ушел и меня не досчитаются. К счастью, это произошло мгновенно, – мне удалось поменяться с ним одеждой и местами: я стоял в бушлате, с фонарем в руке на площадке последнего вагона, а с насыпи человек отчаянно махал руками вслед уходящему составу, так тебе и надо, подумал я злорадно. Еще я успел заметить, как отставший выбрался на полотно и побрел по шпалам, а поезд тем временем набирал скорость. Каждый знает, что идти по железнодорожному полотну неудобно, расстояние между шпалами слишком мало для нормального мужского шага. Колонна шла по четыре человека в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, глядя вниз, себе под ноги, и впереди, и позади колонны, придерживая на груди болтающиеся автоматы, семенили конвоиры, еле поспевая и тоже опустив головы. И вновь свисток пробудил меня от навязчивых и бессвязных мыслей. Нас нагоняла платформа, груженная щебнем, лопатами, перевернутыми тачками.
Далеко позади, толкая вагоны и платформу, тяжко дышал и вращал колесами паровоз, машинист не видел колонну, и кричать было бесполезно; конвой оглядывался, состав нагонял колонну; как лошадь не может свернуть с дороги, так мы бежали по шпалам, и следом за нами визжали колеса, побрякивали тачки и лопаты. Солдаты сбежали с пути, что-то выкрикивали, но мы не могли сойти с дороги, шаг влево, шаг вправо, конвой применяет оружие, это заклятье сидело у нас в спинном мозгу, страшное чувство действительности, от которой некуда деваться, парализовало меня.
Тут, однако, кое-что изменилось. Оловянное небо низко стояло над лесами, над пнями и гатями, там и сям поблескивало тусклое серебро болот, надо было решаться. Патруль ждал по ту сторону пути, за шумом и громом проносящихся вагонов, и я знал, что, как только поезд пройдет мимо, проводник СРС спустит зверя, проводник служебно-разыскной собаки. Он сам был похож на свою СРС. Кто кого держал на поводке? Поезд гремел на стыках, патруль ждал, кирзовые сапоги, заляпанные грязью, были видны между мелькающими колесами, пес перебирал передними лапами, мне даже казалось, что я слышу, как он повизгивает от нетерпения и сержант щелкает языком. Паровоз взвыл, давая понять, что состав минует таежную станцию с древнерусским названием, которого не было на карте, весь наш гиблый край не существовал; и вот я вижу, как приближается последний, так называемый русский двухосный вагон, короткий, в отличие от четырехосного двухсоттонного пульмана, слишком тяжелого для проложенной на скорую руку узкоколейки. Вагон катился, вихляясь, в хвосте состава, и надежда оставила меня окончательно. Терять было нечего, я подпрыгнул и сорвался, снова прыгнул, получил сильный удар, но сумел подтянуться и взобрался на площадку, и тотчас все улетучилось в свисте ветра, я забыл, кто я и откуда, словно все было сном и восстановилась нормальная человеческая жизнь. Войдя в теплый вагон, я уселся в проходе на свободное место. Пассажиры молча, брезгливо подвинулись, косясь на мою одежду. Буфетчик в белом грязноватом фартуке нес на согнутой руке корзину, в другой руке держал большой алюминиевый чайник, предлагал какао, булку с колбасой, вещи, которых я не ел тысячу лет, денег у меня не было, толстый буфетчик сжалился и налил мне горячего какао в бумажный стаканчик, и сладкая усталость сморила меня, и я уснул под стук огромных часов, под гул поезда, уходящего в черный туннель, под гром вагонов на мосту и внезапно ворвавшийся свист и вой идущего мимо экспресса. Голова моя болталась на груди, во сне я видел сверкающие на солнце рельсовые пути, стрелки, пикетные столбики и далекие мачты светофоров.
2. Путевые картины
Я спал и не спал и думал о том, что так и буду ехать всю жизнь, поглядывать в окошко на снежные леса, весенние разливы, на бабу-стрелочницу со свернутым желтым флажком. Давно уже я замечал, что железная дорога играет особую роль в моей жизни, в моей клочковатой, тряской, гремучей жизни, – с той поры, когда ребенком я подбегал к полотну, вслушивался в подрагивание рельсов и вглядывался в далекий туманный путь, откуда медленно, незаметно неслось на меня неведомое будущее. Что-то смутное, голубоватое, все ближе, ясней – это шла электричка. Ветер нес навстречу запах дегтя и стали, ржавого щебня, мазута, был канун выходного дня, ранний вечер, и мачты, и протянутые в вышине друг над другом, соединенные перемычками провода рисовались на серебряном небе.
В то время у меня была целая коллекция билетов, картонных прямоугольничков, красных – с названиями далеких станций, желтых – с номерами пригородных зон, я ждал, когда схлынет толпа дачников, лез под дощатую платформу, чтобы добыть билетик с треугольной пробоиной от щипчиков контролера, брел по дорожке, усыпанной иглами, пересеченной корнями деревьев, как следопыт, впиваясь глазами в лесную тропу. Железная дорога пробуждала необъяснимое волнение, и, может быть, собирание билетиков было лишь поводом для того, чтобы вдыхать ее запах. Железная дорога звала за собой и обещала избавление – от чего? Дорога связала эпохи моей биографии, не давая ей распасться, как стержень, на который нанизаны места и времена; четырехструнный инструмент судьбы. Стоит ли удивляться? Я догадался, что иначе и не могло быть в огромной расползающейся стране, простроченной рельсовыми путями, которые скрепляют ее рыхлое тело.
Поезд был похож на электрички нашего детства, с широкими окнами, без купе и верхних полок. Быть может, сидячие вагоны чередовались со спальными; или скорость так возросла, что поезда дальнего следования стали похожи на пригородные; оба предположения были малоправдоподобны, но чего не бывает в пути? Например, я заметил, что путь деформирует время.
Дорога перемалывает часы в километры, сутки – в климатические пояса. Вы уезжаете из одной жизни, приезжаете в другую. Трудно сказать, сколько времени я дремал; чей-то взгляд заставил меня пробудиться. И, прежде чем я разлепил веки, я понял – спинным мозгом, который не ошибается, – что за мной следят.
Контролер! Или, чего доброго, поездной патруль под видом контроля. Или то и другое вместе. Медленно двигались они по проходу навстречу друг другу, слышался служебный голос, щелкали щипчики. Даже если они не знали, кто я такой, хотя за мной-то они скорее всего и охотились, ведь я уже был объявлен во всесоюзный розыск, – остаться неузнанным было невозможно. У меня не было билета, не было паспорта, на мне была лагерная одежда, можно было не сомневаться – на ближайшей остановке меня ждали местный оперуполномоченный и конвой. Даже если бы просто ссадили меня, на станции ждал конвой. На всех станциях всегда стоит наготове конвой. Итак: не мешкая встать и выйти в тамбур. Разумеется, меня окликнут, может быть, схватят за рукав; вырваться, пробормотать: я в уборную, сейчас вернусь, что-нибудь в этом роде; на мое счастье, в вагон набился народ, протолкаться в проходе и тамбуре, проскользнуть по железному трапу в другой вагон, выбраться наружу, пересидеть на ступеньках в свисте и грохоте, пока они не уйдут; на худой конец спрыгнуть и скатиться с насыпи. Все это неслось и стучало в моем мозгу.
Между тем я давно уже очнулся и лишь для виду клевал носом в нелепой надежде, что, увидев меня спящим, они пройдут мимо. У меня даже возникла мысль, что я услышу, о чем они будут говорить между собой, уверенные, что я сплю, и разгадаю их планы. Так было со мной в далекие времена, пожалуй, мне было уже лет тринадцать, когда однажды утром соседка зашла к моей матери, а я все еще был в постели и стеснялся встать, притворившись спящим; все мое тело стонало от вынужденной неподвижности, но я не мог открыть глаза, охваченный внезапным волнением и любопытством; я слышал вещи, о которых не говорят при детях и мужчинах; соседка пожаловалась на то, что она похудела и лифчики стали велики для ее грудей, и мама ей что-то ответила, а та говорила, что она только притворяется, будто испытывает удовольствие, а на самом деле жизнь с мужем не доставляет ей радости и она боится, что он догадается и найдет себе другую. Здесь было много неясностей, и я надеялся, что из дальнейшего разговора все прояснится. Я встал, разминая затекшие члены, и чрезвычайно удачно выбрался, никем не замеченный, оттого что контролер, или кто он там был, занялся другим безбилетником. В тамбуре у окна стояла невысокая крутобедрая женщина с грубоватым лицом продавщицы или колхозницы, разговор моей матери с соседкой не выходил у меня из головы, я подумал, что с простой девушкой можно не церемониться; слушай, прошептал я, обнимая ее сзади, у нас мало времени. Чего ж ты говоришь, что лифчик стал тебе велик? Когда у тебя такие спелые, такие круглые груди! Но она молча повернула ко мне выпуклые глаза, давая понять, что нас могут застукать. Оглянувшись, я показал ей на дверь туалета, она радостно закивала и схватилась за ручку, мы оба схватились за ручку узкой двери с надписью и глазком, что придавало ей сходство с тюремной камерой, дверь не поддавалась, возможно, так кто-то был; вместе мы дергали и рвали ручку, как вдруг дверь отворилась, и тотчас я понял, что все обман. Из уборной выступил контролер. Не исключено, что они оба были в заговоре. Это был ложный ход. Я снова сидел в вагоне, на этот раз у окна – съежившись, смежив веки, ждал, когда меня схватит за плечо сильная и безжалостная рука.
3. Попутчики
Но ничего не происходило. Похоже было, что они ушли.
Чей-то пристальный взгляд по-прежнему не отпускал меня; так спящий чувствует на щеке солнечный зайчик. Все еще не доверяя удаче, я открыл глаза, острожно, как отворяют дверь. Поезд несся вперед, народ сошел на станции, которую я умудрился не заметить, очевидно, и контролеры сошли. В опустевшем вагоне громче раздавался мерный стук колес. Мир свистел и летел мимо, а здесь было тепло и покойно, кое-где по углам дремали редкие пассажиры, покачивались на крюках сумки с продуктами.
“Не знаете ли вы…” – просипел я. Пожилой приличный господин, сидевший напротив, улыбнулся и наклонил голову. “Не скажете ли вы, – повторил я, прочистив горло, – где мы едем?” Человек ответил что-то на языке, который показался мне не совсем незнакомым; вероятно, и он скорей догадался, чем понял, что я сказал. Возле него у окна сидел, свесив ноги, кудрявый ребенок, очевидно, внучка, она смотрела на проносящиеся леса. Услыхав наш разговор, повернула ко мне личико, напомнившее мне кого-то.
Я почувствовал благодарность к моему визави; собственно, и заговорил-то с ним оттого, что испытал прилив симпатии к случайному спутнику, незаметно подсевшему, пока я боролся с кошмаром. Вот человек, подумалось мне, которому ничего от меня не надо, который ни в чем меня не подозревает и не требует предъявить документы. Мое молчание могло быть воспринято как невежливость. Я спросил: “Вы, наверное, из Прибалтики?”
Он покачал головой. “Вы иностранец, – сказал я с восхищением, – из какой же вы страны?” Он пожал плечами. “Америка? Англия?” “Тепло”, – промолвил он с хитрым видом. “Голландия?” – “Еще теплей”. “Германия! – воскликнул я. – Дойчланд! Вот видите, я сразу усек, что вы из-за бугра, вы улыбнулись незнакомому человеку, а у нас, знаете ли, это не принято”. Я говорил и не мог остановиться.
“Да еще вдобавок, если он в таком виде”, – добавил я и показал на телогрейку и ватные штаны.
Пассажир снова пожал плечами, оттого ли, что плохо меня понимал, или желая сказать, что для него не имеет значения, кто как одет. Может быть, он решил, что в этой стране принято так одеваться, что, в общем-то, было недалеко от истины.
Что касается его собственного наряда, то тут я должен сказать, что он не просто выглядел иностранцем, но как будто явился из другого века. Конечно, в дороге кого только не встретишь. Пассажир был облачен в черный сюртук, жилет, высокий крахмальный воротничок с отогнутыми уголками, черный шелковый галстук. На крючке под багажной полкой висели его шляпа и плащ с пелериной, называемый, если не ошибаюсь, крылаткой, в который девочка зарывалась всякий раз, когда я посматривал на нее.
Мне было стыдно, что я так плохо говорю, и я пробормотал, что когда-то учился, только вот все забыл.
Он поднял брови.
“Забыл язык!” – сказал я сокрушенно.
“О, нет, вы прекрасно говорите”, – возразил он и погладил внучку, которая, открыв рот, слушала нас или, вернее, меня и, видимо, вовсе ничего не понимала. Она положила голову на колени деду, не спуская с меня глаз, как будто хотела показать, что он ее собственность и она не намерена уступить ее даже на короткое время чужому человеку.
«А дочь?» Старичок с планкой орденов на пиджаке, заведующий или кто он там был, пожал плечами.
Я хотел ей объяснить, что меня выгнали из общежития за то, что я будто бы устроил в нашей комнате притон разврата, но скорее всего это был повод, чтобы, наконец, меня выселить; что я искал защиты в известном учреждении, но ничего не помогло. Из окна моего номера я мог любоваться рекой, прежде я не видел её с высоты; я находился на десятом этаже, на той самой площади за мостом, которая в моё время ещё хранила следы войны. И теперь, глядя на противоположный берег, набережную, где я любил стоять когда-то, где мы оба стояли, я догадывался, что новый облик города был обманчив, по-настоящему ничего не изменилось, как не изменился, несмотря на перемену всех моих обстоятельств, я сам. И, как в те былые, небывалые времена, вид спокойных, неподвижно-текучих вод примирял меня с жизнью.
Я жил в своей фантазии: в городе, которого нет, с девушкой, которая никогда не существовала.
Гиббоны и облака
Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной дороги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всём участке вплоть до Голутвина никто отродясь не видел контролёров. Тем не менее однажды вечером, в десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного государства.
Произошло это так: в ответ на вопрос контролёра пассажир, улыбаясь, помотал головой и развёл руками. Подошёл второй контролёр, женщина. Поезд нёсся мимо тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы вагона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролёр показывал пассажиру сложенные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного формата в дерматиновой обложке с гербом и короной. Контролёр развернул диковинный паспорт, как ребёнок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядывала через плечо. Контролёр попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.
Иностранный гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где был встречен местным милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица побежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и чесал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей стране. С некоторым остолбенением присутствующие разглядывали фотографию владельца, который был представлен во весь рост, в лазоревом мундире с золотым шитьём и орденами, на фоне пальм.
Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, оттуда последовали неопределённые указания, видимо, там тоже не слыхали о новом государстве, освободившемся от ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, было в газетах: советско-зедангские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы поставить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с органами. Пускай уж там, выше, сами разбираются, наше дело, сказал начальник станции, доложить.
Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, невзирая на поздний час, посольство. По указанию начальника старшина ввёл иностранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе был внесён скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаровательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил глоток и стал крутить телефонный диск.
Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провёл на кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник сидел в своём кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он расхаживает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задребезжал телефон, голос с иностранным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.
Зелёная луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, послышалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только одно ответственное лицо, но зато какое! Военный атташе собственной персоной, с бахромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напоминал швейцара к каком-нибудь шикарном отеле. Ко всеобщей радости оказалось, что атташе превосходно владеет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.
Дрезина, как только высокий гость сошёл на платформу, сама собой тронулась и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зелёный сигнал на красный.
В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трёхзвёздный армянский коньяк, лимон, нарезанный ломтиками, явилась селёдочка, проплыла мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на жидких волосах уборщица Степанида или Аглаида, история не сохранила её точного имени, – с огромной сковородой, на которой журчала глазунья с салом. Под звон стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и их вождей: Генерального секретаря КПСС и Его Величества революционного короля Али-Баба Зеданга Мудрого, а также Его Высочества революционного наследного принца Али-Баба Мухамеда Зеданга, Ещё Более Мудрого. Как это, ещё более? А вот так: каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет Ещё Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» – вскричал военный атташе. Начальник рассыпался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошёл в кабинет. Пир продолжался втроём и оставил по себе самые лучшие воспоминания.
Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанского вокзала, причём атташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся коробке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин королевства Зеданг мурлыкал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину, словно бадью из колодца, будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомкнул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме коммунальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь на защёлку, задвинул задвижку и – уфф! – плюхнулся на диван.
Мундир с регалиями висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, что он не нов. На старом костяном роге – возможно, это был рог единорога – раскачивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», – зевая проговорил эксатташе. – «Успеется; работа не волк». – «А ты, – сказал атташе, – когда-нибудь доиграешься». В ответ коллекционер махнул рукой. – «Нет, ты когда-нибудь доиграешься. Думаешь, они не догадались?» – «Зачем им догадываться?» – возразил хозяин.
Он был прав: в самом деле, зачем? И ещё много лет спустя начальник станции рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.
В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пузырился желудёвый кофе. Над продавленным диванным ложем штабеля альбомов в массивных переплётах грозили обрушиться вместе с полкой. На почернелом от городской копоти подоконнике стоял аппарат для рассматривания водяных знаков. Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, выполненной в точном соответствии с изображениями на марках. Она обошлась ему в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филателист был нищ, как всякий обладатель сокровищ.
«Ну, я пошёл», – пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер за ним дверь.
Он рассматривал через увеличительное стекло добычу, ради которой было предпринято путешествие в Голутвин, к собрату, доживающему там свои дни. Три недостающих экземпляра. Теперь у филателиста были все двенадцать марок – полная серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Голубошерстные гиббоны, которым была посвящена серия, принадлежали к виду, не известному за пределами сказочных нагорий Зеданга.
Нелишне будет заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то мнимые грамоты, имитации редких монет, знаков военной доблести или знаков почтовой оплаты, есть занятие столь же легитимное, как и собирание подлинников. В некотором высоком смысле поддельный раритет равноправен подлинному. Существуют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с которыми оригинал выглядит беспомощным подражанием. Вышедшая из рук высокоодарённого мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама превращается в оригинал и, в свою очередь, может быть подделана. Но своей вершины искусство изготовления фальсификатов достигает в подделывании несуществующих подлинников.
Большая, во всю стену карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье филателиста, убеждала в том, что эпоха великих географических открытий не закончилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в нагорьях Юго-Восточной Азии и на островах тёплых морей, страна, где не существует смены времён, где царит вечное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии, там были отпечатаны карты и прочее; особый успех выпал на долю почтовых знаков: за короткое время цена их удвоилась. Уже в начале века известный каталог Гизевиуса поместил их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и эта история со временем превратилась в легенду или, лучше сказать, стала малозначительным эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы многое рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске и коварстве его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию кухне.
Магия крошечного цветного квадратика завладела собирателем, словно он выглянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубоватой шерстью животных на разогретой солнцем каменистой тропе.
Дорога
Я писал Историю железных дорог.
Чехов
1. Интродукция
Среди ночи, в кромешной тьме, я проснулся от паровозного свистка, выскочил на перрон, бежал рядом с грохочущими вагонами, протянув руки к поручням, сбил с ног кого-то, мне казалось, перрон с киосками и провожающими едет назад, мне казалось, что я бегу на одном месте; я вскарабкался на тормозную площадку и лишь тогда заметил, что это не тот поезд. Пришлось спрыгнуть, и я кубарем покатился с насыпи. Я смотрел вслед последнему вагону, а оттуда на меня смотрел человек в стеганом бушлате и солдатской шапке-ушанке. В ужасе я понял, что это был тот поезд, что поезд ушел и меня не досчитаются. К счастью, это произошло мгновенно, – мне удалось поменяться с ним одеждой и местами: я стоял в бушлате, с фонарем в руке на площадке последнего вагона, а с насыпи человек отчаянно махал руками вслед уходящему составу, так тебе и надо, подумал я злорадно. Еще я успел заметить, как отставший выбрался на полотно и побрел по шпалам, а поезд тем временем набирал скорость. Каждый знает, что идти по железнодорожному полотну неудобно, расстояние между шпалами слишком мало для нормального мужского шага. Колонна шла по четыре человека в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, глядя вниз, себе под ноги, и впереди, и позади колонны, придерживая на груди болтающиеся автоматы, семенили конвоиры, еле поспевая и тоже опустив головы. И вновь свисток пробудил меня от навязчивых и бессвязных мыслей. Нас нагоняла платформа, груженная щебнем, лопатами, перевернутыми тачками.
Далеко позади, толкая вагоны и платформу, тяжко дышал и вращал колесами паровоз, машинист не видел колонну, и кричать было бесполезно; конвой оглядывался, состав нагонял колонну; как лошадь не может свернуть с дороги, так мы бежали по шпалам, и следом за нами визжали колеса, побрякивали тачки и лопаты. Солдаты сбежали с пути, что-то выкрикивали, но мы не могли сойти с дороги, шаг влево, шаг вправо, конвой применяет оружие, это заклятье сидело у нас в спинном мозгу, страшное чувство действительности, от которой некуда деваться, парализовало меня.
Тут, однако, кое-что изменилось. Оловянное небо низко стояло над лесами, над пнями и гатями, там и сям поблескивало тусклое серебро болот, надо было решаться. Патруль ждал по ту сторону пути, за шумом и громом проносящихся вагонов, и я знал, что, как только поезд пройдет мимо, проводник СРС спустит зверя, проводник служебно-разыскной собаки. Он сам был похож на свою СРС. Кто кого держал на поводке? Поезд гремел на стыках, патруль ждал, кирзовые сапоги, заляпанные грязью, были видны между мелькающими колесами, пес перебирал передними лапами, мне даже казалось, что я слышу, как он повизгивает от нетерпения и сержант щелкает языком. Паровоз взвыл, давая понять, что состав минует таежную станцию с древнерусским названием, которого не было на карте, весь наш гиблый край не существовал; и вот я вижу, как приближается последний, так называемый русский двухосный вагон, короткий, в отличие от четырехосного двухсоттонного пульмана, слишком тяжелого для проложенной на скорую руку узкоколейки. Вагон катился, вихляясь, в хвосте состава, и надежда оставила меня окончательно. Терять было нечего, я подпрыгнул и сорвался, снова прыгнул, получил сильный удар, но сумел подтянуться и взобрался на площадку, и тотчас все улетучилось в свисте ветра, я забыл, кто я и откуда, словно все было сном и восстановилась нормальная человеческая жизнь. Войдя в теплый вагон, я уселся в проходе на свободное место. Пассажиры молча, брезгливо подвинулись, косясь на мою одежду. Буфетчик в белом грязноватом фартуке нес на согнутой руке корзину, в другой руке держал большой алюминиевый чайник, предлагал какао, булку с колбасой, вещи, которых я не ел тысячу лет, денег у меня не было, толстый буфетчик сжалился и налил мне горячего какао в бумажный стаканчик, и сладкая усталость сморила меня, и я уснул под стук огромных часов, под гул поезда, уходящего в черный туннель, под гром вагонов на мосту и внезапно ворвавшийся свист и вой идущего мимо экспресса. Голова моя болталась на груди, во сне я видел сверкающие на солнце рельсовые пути, стрелки, пикетные столбики и далекие мачты светофоров.
2. Путевые картины
Я спал и не спал и думал о том, что так и буду ехать всю жизнь, поглядывать в окошко на снежные леса, весенние разливы, на бабу-стрелочницу со свернутым желтым флажком. Давно уже я замечал, что железная дорога играет особую роль в моей жизни, в моей клочковатой, тряской, гремучей жизни, – с той поры, когда ребенком я подбегал к полотну, вслушивался в подрагивание рельсов и вглядывался в далекий туманный путь, откуда медленно, незаметно неслось на меня неведомое будущее. Что-то смутное, голубоватое, все ближе, ясней – это шла электричка. Ветер нес навстречу запах дегтя и стали, ржавого щебня, мазута, был канун выходного дня, ранний вечер, и мачты, и протянутые в вышине друг над другом, соединенные перемычками провода рисовались на серебряном небе.
В то время у меня была целая коллекция билетов, картонных прямоугольничков, красных – с названиями далеких станций, желтых – с номерами пригородных зон, я ждал, когда схлынет толпа дачников, лез под дощатую платформу, чтобы добыть билетик с треугольной пробоиной от щипчиков контролера, брел по дорожке, усыпанной иглами, пересеченной корнями деревьев, как следопыт, впиваясь глазами в лесную тропу. Железная дорога пробуждала необъяснимое волнение, и, может быть, собирание билетиков было лишь поводом для того, чтобы вдыхать ее запах. Железная дорога звала за собой и обещала избавление – от чего? Дорога связала эпохи моей биографии, не давая ей распасться, как стержень, на который нанизаны места и времена; четырехструнный инструмент судьбы. Стоит ли удивляться? Я догадался, что иначе и не могло быть в огромной расползающейся стране, простроченной рельсовыми путями, которые скрепляют ее рыхлое тело.
Поезд был похож на электрички нашего детства, с широкими окнами, без купе и верхних полок. Быть может, сидячие вагоны чередовались со спальными; или скорость так возросла, что поезда дальнего следования стали похожи на пригородные; оба предположения были малоправдоподобны, но чего не бывает в пути? Например, я заметил, что путь деформирует время.
Дорога перемалывает часы в километры, сутки – в климатические пояса. Вы уезжаете из одной жизни, приезжаете в другую. Трудно сказать, сколько времени я дремал; чей-то взгляд заставил меня пробудиться. И, прежде чем я разлепил веки, я понял – спинным мозгом, который не ошибается, – что за мной следят.
Контролер! Или, чего доброго, поездной патруль под видом контроля. Или то и другое вместе. Медленно двигались они по проходу навстречу друг другу, слышался служебный голос, щелкали щипчики. Даже если они не знали, кто я такой, хотя за мной-то они скорее всего и охотились, ведь я уже был объявлен во всесоюзный розыск, – остаться неузнанным было невозможно. У меня не было билета, не было паспорта, на мне была лагерная одежда, можно было не сомневаться – на ближайшей остановке меня ждали местный оперуполномоченный и конвой. Даже если бы просто ссадили меня, на станции ждал конвой. На всех станциях всегда стоит наготове конвой. Итак: не мешкая встать и выйти в тамбур. Разумеется, меня окликнут, может быть, схватят за рукав; вырваться, пробормотать: я в уборную, сейчас вернусь, что-нибудь в этом роде; на мое счастье, в вагон набился народ, протолкаться в проходе и тамбуре, проскользнуть по железному трапу в другой вагон, выбраться наружу, пересидеть на ступеньках в свисте и грохоте, пока они не уйдут; на худой конец спрыгнуть и скатиться с насыпи. Все это неслось и стучало в моем мозгу.
Между тем я давно уже очнулся и лишь для виду клевал носом в нелепой надежде, что, увидев меня спящим, они пройдут мимо. У меня даже возникла мысль, что я услышу, о чем они будут говорить между собой, уверенные, что я сплю, и разгадаю их планы. Так было со мной в далекие времена, пожалуй, мне было уже лет тринадцать, когда однажды утром соседка зашла к моей матери, а я все еще был в постели и стеснялся встать, притворившись спящим; все мое тело стонало от вынужденной неподвижности, но я не мог открыть глаза, охваченный внезапным волнением и любопытством; я слышал вещи, о которых не говорят при детях и мужчинах; соседка пожаловалась на то, что она похудела и лифчики стали велики для ее грудей, и мама ей что-то ответила, а та говорила, что она только притворяется, будто испытывает удовольствие, а на самом деле жизнь с мужем не доставляет ей радости и она боится, что он догадается и найдет себе другую. Здесь было много неясностей, и я надеялся, что из дальнейшего разговора все прояснится. Я встал, разминая затекшие члены, и чрезвычайно удачно выбрался, никем не замеченный, оттого что контролер, или кто он там был, занялся другим безбилетником. В тамбуре у окна стояла невысокая крутобедрая женщина с грубоватым лицом продавщицы или колхозницы, разговор моей матери с соседкой не выходил у меня из головы, я подумал, что с простой девушкой можно не церемониться; слушай, прошептал я, обнимая ее сзади, у нас мало времени. Чего ж ты говоришь, что лифчик стал тебе велик? Когда у тебя такие спелые, такие круглые груди! Но она молча повернула ко мне выпуклые глаза, давая понять, что нас могут застукать. Оглянувшись, я показал ей на дверь туалета, она радостно закивала и схватилась за ручку, мы оба схватились за ручку узкой двери с надписью и глазком, что придавало ей сходство с тюремной камерой, дверь не поддавалась, возможно, так кто-то был; вместе мы дергали и рвали ручку, как вдруг дверь отворилась, и тотчас я понял, что все обман. Из уборной выступил контролер. Не исключено, что они оба были в заговоре. Это был ложный ход. Я снова сидел в вагоне, на этот раз у окна – съежившись, смежив веки, ждал, когда меня схватит за плечо сильная и безжалостная рука.
3. Попутчики
Но ничего не происходило. Похоже было, что они ушли.
Чей-то пристальный взгляд по-прежнему не отпускал меня; так спящий чувствует на щеке солнечный зайчик. Все еще не доверяя удаче, я открыл глаза, острожно, как отворяют дверь. Поезд несся вперед, народ сошел на станции, которую я умудрился не заметить, очевидно, и контролеры сошли. В опустевшем вагоне громче раздавался мерный стук колес. Мир свистел и летел мимо, а здесь было тепло и покойно, кое-где по углам дремали редкие пассажиры, покачивались на крюках сумки с продуктами.
“Не знаете ли вы…” – просипел я. Пожилой приличный господин, сидевший напротив, улыбнулся и наклонил голову. “Не скажете ли вы, – повторил я, прочистив горло, – где мы едем?” Человек ответил что-то на языке, который показался мне не совсем незнакомым; вероятно, и он скорей догадался, чем понял, что я сказал. Возле него у окна сидел, свесив ноги, кудрявый ребенок, очевидно, внучка, она смотрела на проносящиеся леса. Услыхав наш разговор, повернула ко мне личико, напомнившее мне кого-то.
Я почувствовал благодарность к моему визави; собственно, и заговорил-то с ним оттого, что испытал прилив симпатии к случайному спутнику, незаметно подсевшему, пока я боролся с кошмаром. Вот человек, подумалось мне, которому ничего от меня не надо, который ни в чем меня не подозревает и не требует предъявить документы. Мое молчание могло быть воспринято как невежливость. Я спросил: “Вы, наверное, из Прибалтики?”
Он покачал головой. “Вы иностранец, – сказал я с восхищением, – из какой же вы страны?” Он пожал плечами. “Америка? Англия?” “Тепло”, – промолвил он с хитрым видом. “Голландия?” – “Еще теплей”. “Германия! – воскликнул я. – Дойчланд! Вот видите, я сразу усек, что вы из-за бугра, вы улыбнулись незнакомому человеку, а у нас, знаете ли, это не принято”. Я говорил и не мог остановиться.
“Да еще вдобавок, если он в таком виде”, – добавил я и показал на телогрейку и ватные штаны.
Пассажир снова пожал плечами, оттого ли, что плохо меня понимал, или желая сказать, что для него не имеет значения, кто как одет. Может быть, он решил, что в этой стране принято так одеваться, что, в общем-то, было недалеко от истины.
Что касается его собственного наряда, то тут я должен сказать, что он не просто выглядел иностранцем, но как будто явился из другого века. Конечно, в дороге кого только не встретишь. Пассажир был облачен в черный сюртук, жилет, высокий крахмальный воротничок с отогнутыми уголками, черный шелковый галстук. На крючке под багажной полкой висели его шляпа и плащ с пелериной, называемый, если не ошибаюсь, крылаткой, в который девочка зарывалась всякий раз, когда я посматривал на нее.
Мне было стыдно, что я так плохо говорю, и я пробормотал, что когда-то учился, только вот все забыл.
Он поднял брови.
“Забыл язык!” – сказал я сокрушенно.
“О, нет, вы прекрасно говорите”, – возразил он и погладил внучку, которая, открыв рот, слушала нас или, вернее, меня и, видимо, вовсе ничего не понимала. Она положила голову на колени деду, не спуская с меня глаз, как будто хотела показать, что он ее собственность и она не намерена уступить ее даже на короткое время чужому человеку.