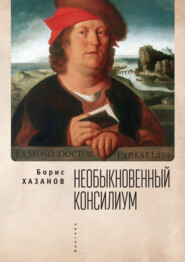По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Подвиг Искариота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Кажется, к нему действительно какая-то подкатывалась. Мужчин вокруг почти не осталось, что тут удивительного. И я от всего сердца желала ему, чтобы жизнь его как-то устроилась. Но вдруг представила себе, как я приезжаю, а тут чужая тётка хозяйничает, – была бы я рада?»
«Он всегда уступал мне место на кровати, а сам укладывался на раскладушке. Было уже поздно, я вышла ненадолго, серебряная луна висела в пустом светлом небе, озеро блестело, всё как будто умерло вокруг, – ведь это и было то, о чём он мечтал? – вернулась в избу и в темноте наткнулась на пустую раскладушку. Я подумала, что он спит, может быть, прилёг и заснул ненароком, и стала раздеваться. Он окликнул меня. “Спи, – сказала я. – Я здесь лягу”. Немного спустя он снова меня окликнул, я уже лежала. Он спросил: “Ты спишь?” – “Сплю”. – “Я тебе кое-что хочу сказать. Я знаю, кто это написал”. Я молчала, потому что меня охватил страх».
«Я-то думала, что он давно забыл об этой беседе. Я и сама забыла. Но я не только сразу поняла, о чём он говорит, но и догадалась, кого он имеет в виду. Странное дело, я даже не очень была этим удивлена».
«Он сказал: “Она бросила меня во второй раз, и за это она меня ненавидит”».
«Тогда я спросила, откуда он знает, что это был донос. “Знаю”. Почему он думает, что это она написала? “А кто же?” Потом добавил: “Она сюда приезжала – на разведку”. – “Мать? приезжала?” – “Да”. – “Кто это сказал, её кто-нибудь видел?” – “Не знаю, может, и видели”. – “Откуда же это известно?” – “Ниоткуда. Можешь мне поверить. Она думает, что ты заняла её место, и ревнует. К своей же дочери ревнует бывшего мужа”».
«Между прочим, я в это поверила. Каким-то чутьём поверила, что так оно и есть, и даже не удивилась».
«”Ты что, – сказала я холодно, – рехнулся? Ты это всерьёз?” Он ничего не ответил. Молча мы лежали в темноте, я на раскладушке, он на кровати, мне даже показалось, что он задремал. Вдруг он сказал: “Может, она права?” И добавил – как будто даже не ко мне обращаясь, а к самому себе: “А что же мне ещё остаётся”».
«Я спросила: “Что ты хочешь этим сказать?” – “То самое и хочу сказать. Подойди ко мне”. – “Можно говорить и оттуда”. – “Нет, ты подойди поближе”. Мой страх не проходил, наоборот, и я подумала, не уйти ли мне сейчас же. Мёртвый лес, луна. Я встала, собрала в охапку свою одежду. Он лежал на спине, глаза блестели в полутьме. “Ты куда?” – спросил он тяжёлым, хриплым голосом. Я забормотала, что мне надо ехать, срочные дела, совсем забыла… “Ты мне дочь? – спросил он. – Дочь должна слушаться отца. Подойди ко мне, ничего с тобой не будет…” Я подошла, с платьем, с чулками, со всем, что было у меня в руках. “Никуда ты не поедешь”. Я пролепетала: “Ты мне хотел что-то сказать?..” – “Сядь”. Я села на край кровати. Дорогой доктор, пожалуйста, очень прошу. Мы никогда больше не увидимся. Сама не знаю, зачем я это пишу. Порвите моё письмо, когда прочтёте».
«Он взял мою руку, положил к себе, и я почувствовала, как всё это чудовищно налилось и отвердело. Как я уже говорила, никакого насилия на самом деле не было; я ведь не девочка. Если бы не его смерть, если бы в самом деле дознались, притянули его к суду, я бы первая встала на его защиту. Когда он схватил меня своими руками, словно клещами, – он был сильный, жилистый, твёрдый, как железо, – и потянул на себя, я не сопротивлялась, сама я ничего не делала, но и сопротивления не оказала; я как будто окоченела. Он тяжело дышал, я даже спросила: “Тебе плохо?”, он не ответил, и потом это снова повторилось, и я совершенно обессилела – от разговора перед тем, как идти к нему, от внезапной бури, от всего. Мы оба были измучены и уснули, как мёртвые».
«А наутро… что же было наутро? Странно сказать – ничего особенного. То есть просто ничего: сели завтракать, он бродил где-то с собакой, потом обедали, потом я стала собираться… Я приезжала к нему, как прежде, и жизнь шла совершенно так, как и раньше, с одной только разницей – мы стали мужем и женой. И всякий раз, когда я собиралась к нему, он ждал меня, как муж жену, и я ехала к нему, как жена к мужу. Раньше я даже представить себе не могла, что можно любить мужчину двойной любовью».
«Выходило, что моя мать просто накликала эту историю; и если так – я благодарна ей. Но после этого, когда всё произошло на самом деле, его больше никуда не вызывали. Кто-нибудь, может, и догадывался, – хотя в деревнях, к таким вещам, по-моему, относятся довольно равнодушно. После этого прошло сколько-то времени, никто нас не тревожил, мы даже осмелели, ходили вместе в деревню, ездили в Полотняный Завод. А однажды чуть не поссорились – до сих пор не пойму, из-за чего. Полили дожди, озеро вышло из берегов; слава Богу, избушка на пригорке, а то бы и нас затопило. Темно было, как вечером. Отец сидел перед печкой, отблески играли на его лице, и глаза светились жутким каким-то, тускло-жёлтым огнём, – или мне сейчас так кажется? Я позвала обедать. Он ни с места. Я подошла к нему, обняла, прижалась сзади грудью. Он сказал: “Я, конечно, понимаю”. Помолчал и добавил: “Понимаю, почему ты со мной”. – “Почему?” – спросила я. Он поднялся, мы стояли, не выпуская друг друга из объятий, не отрывая губ от губ, потом рухнули в постель – среди бела дня, так бывало уже не раз. Потом долго лежали, не говоря ни слова. Наконец, он сказал: “Это из жалости, да?..” Я ответила: “Печка сейчас потухнет”. Он встал, я посмотрела ему вслед и увидела, какой он длинный и тощий, с выступающим позвоночником. Он подбросил дров, закрыл дверцу, вернулся. “Ну что, – сказал он, – насмотрелась?”. Улёгся, и мы снова лежали рядом и молчали. “Дескать, вот он какой несчастный, дай-ка я его пожалею… Из жалости, да?” Я кивнула. “Вот, – сказал он, – я так и знал. Любить меня нельзя”. – “Нельзя”, – сказала я. Он ответил со злобой – и злоба эта вспыхнула так же внезапно, как перед этим желание: “На х… мне твоя жалость! Пошла ты со своей жалостью знаешь куда?” Мне не хотелось его раздражать, да и время шло, я собиралась ехать после обеда. “Всё остыло, – сказала я, – ты немного полежи, я подогрею”. Мне было приятно, что он на меня смотрит, я чувствовала, что его взгляд скользит по моему телу; позови он меня, я бы снова легла. Я подошла – он лежал, подложив под голову жилистые руки, – и сказала: “Да, ты прав. Ничего не поделаешь. Все мы такие. Жалость – это ведь и есть любовь. Сильнее любви не бывает, ты что, этого не понял?”». Он посмотрел на меня и сказал: “Катись ты, знаешь куда? С твоей любовью…”»
«В следующий раз – я теперь ездила к нему каждую неделю, и мне уже было всё равно, что подумает мама: догадалась, так догадалась, – в следующий раз застаю его спокойным, даже почти весёлым. Как вдруг он мне говорит: “Мне надо валить отсюда”. Я уставилась на него. “Уезжать, говорю, надо отсюда”. – “Куда?” – “Откуда приехал”. То есть как это, спросила я, что он там собирается делать? Он усмехнулся и сказал: “Надо возвращаться в родные места. А мои родные места – там”».
«Я встревожилась, но на мои расспросы – что случилось, снова написали, кто-нибудь вызывал его? – он только молча покачивал головой. Он взял мою руку в свои ладони. “Здесь не жизнь. А там… что ж, – он вздохнул, – там всё своё, всё знакомо. Кто там долго жил, тому расхочется выходить на волю, он попросту боится. Я тоже боялся. Мне предлагали остаться вольнонаемным. Куда, дескать, ты поедешь. Кому ты там нужен…”»
Я сказала: «Мне».
«“Тебе? Может быть… Знаешь что? – проговорил он. – Я всё обдумал. Поедем со мной”. – “С тобой?” – “Ну да. И пацана возьмём. Никто там тебя не знает, заживём спокойно. Поженимся: у тебя ведь материна фамилия. Не могу я здесь жить”, – сказал мой отец и вышел. Больше мы к этому разговору не возвращались, я так и уехала, вероятно, он ждал, что я сама заговорю, сама ему отвечу, – а что я могла ответить? Я его любила так, как никого не любила. Вам как медику могу сказать: он меня во всём устраивал. И даже если бы не устраивал, если бы не удовлетворял мои бабьи прихоти, я всё равно бы его любила. Но не могла же я с ним ехать Бог знает куда».
«Кроме того, мне казалось, что это у него такое настроение: нахлынуло и пройдёт. Я даже хотела предложить ему начать снова хлопотать, чтобы разрешили прописку в городе, написать заявление, сама бы занялась этим. И теперь думаю: какая прописка? Не в прописке дело. Я сама была виновата…»
Тут я услышал знакомый скрип ступенек, был первый час ночи. Меня вызывали. Привезли женщину с кровотечением. Моя жизнь продолжалась. Слава Богу, думал я, шагая в темноте и то и дело проваливаясь в сугробы. Перед задним крыльцом общего отделения стояла подвода, лошадь была вся белая. Снег сыпал и сыпал. Слава Богу: в запасе у меня есть две ампулы универсального донора; возможно, понадобится перелить кровь.
Похож на человека
«Вот теперь совсем другое дело. Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, – сказала она, – ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность – это не главное. Есть такая пословица: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, – и она постучала пальцем по его лбу, – вот это главное!»
Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.
Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли все пальцы, выкатился из подворотни, вослед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное – не оглядываться.
Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! – сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. – Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, – сказал парень по кличке Пожарник, – дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, – продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. – Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» – крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась перекличка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.
Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.
Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрёму, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» – спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, – закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. – А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, – сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшемуся, чтобы уйти, – нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.
«Ну дай, – лениво сказал Пожарник, – чего жмотничаешь-то».
Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».
Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.
«Сам уронил, сам и жри», – молвил Пожарник.
С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»
«Да ничего, – сказал бодро Пожарник. – Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».
«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», – произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.
«Ну-ка, – сказал он, – повернись к свету».
Мальчик озирался.
«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», – задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.
«Ты откуда такой взялся с таким носярой, – продолжал Бацилла, – дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в класс, классная руководительница – это был её урок – уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё на место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:
«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что…» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.
После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте – помнится, её фамилия была Осколкина – сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, – продолжал он, – виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостоин звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», – сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».
«Откуда это ты знаешь», – мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.
«Знаю, – сказала девочка. – Только не скажу».
«Значит, не знаешь».
«А я видела».
«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.
После некоторого молчания она заметила:
«Можешь меня не провожать».
«А я и не собираюсь тебя провожать», – возразил он.
«Я с такими не вожусь».
Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.
«И вообще, – сказала девочка по фамилии Осколкина, – это не метод».
«Что не метод?» – спросил Нос.
«Не метод борьбы», – сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.
«Он всегда уступал мне место на кровати, а сам укладывался на раскладушке. Было уже поздно, я вышла ненадолго, серебряная луна висела в пустом светлом небе, озеро блестело, всё как будто умерло вокруг, – ведь это и было то, о чём он мечтал? – вернулась в избу и в темноте наткнулась на пустую раскладушку. Я подумала, что он спит, может быть, прилёг и заснул ненароком, и стала раздеваться. Он окликнул меня. “Спи, – сказала я. – Я здесь лягу”. Немного спустя он снова меня окликнул, я уже лежала. Он спросил: “Ты спишь?” – “Сплю”. – “Я тебе кое-что хочу сказать. Я знаю, кто это написал”. Я молчала, потому что меня охватил страх».
«Я-то думала, что он давно забыл об этой беседе. Я и сама забыла. Но я не только сразу поняла, о чём он говорит, но и догадалась, кого он имеет в виду. Странное дело, я даже не очень была этим удивлена».
«Он сказал: “Она бросила меня во второй раз, и за это она меня ненавидит”».
«Тогда я спросила, откуда он знает, что это был донос. “Знаю”. Почему он думает, что это она написала? “А кто же?” Потом добавил: “Она сюда приезжала – на разведку”. – “Мать? приезжала?” – “Да”. – “Кто это сказал, её кто-нибудь видел?” – “Не знаю, может, и видели”. – “Откуда же это известно?” – “Ниоткуда. Можешь мне поверить. Она думает, что ты заняла её место, и ревнует. К своей же дочери ревнует бывшего мужа”».
«Между прочим, я в это поверила. Каким-то чутьём поверила, что так оно и есть, и даже не удивилась».
«”Ты что, – сказала я холодно, – рехнулся? Ты это всерьёз?” Он ничего не ответил. Молча мы лежали в темноте, я на раскладушке, он на кровати, мне даже показалось, что он задремал. Вдруг он сказал: “Может, она права?” И добавил – как будто даже не ко мне обращаясь, а к самому себе: “А что же мне ещё остаётся”».
«Я спросила: “Что ты хочешь этим сказать?” – “То самое и хочу сказать. Подойди ко мне”. – “Можно говорить и оттуда”. – “Нет, ты подойди поближе”. Мой страх не проходил, наоборот, и я подумала, не уйти ли мне сейчас же. Мёртвый лес, луна. Я встала, собрала в охапку свою одежду. Он лежал на спине, глаза блестели в полутьме. “Ты куда?” – спросил он тяжёлым, хриплым голосом. Я забормотала, что мне надо ехать, срочные дела, совсем забыла… “Ты мне дочь? – спросил он. – Дочь должна слушаться отца. Подойди ко мне, ничего с тобой не будет…” Я подошла, с платьем, с чулками, со всем, что было у меня в руках. “Никуда ты не поедешь”. Я пролепетала: “Ты мне хотел что-то сказать?..” – “Сядь”. Я села на край кровати. Дорогой доктор, пожалуйста, очень прошу. Мы никогда больше не увидимся. Сама не знаю, зачем я это пишу. Порвите моё письмо, когда прочтёте».
«Он взял мою руку, положил к себе, и я почувствовала, как всё это чудовищно налилось и отвердело. Как я уже говорила, никакого насилия на самом деле не было; я ведь не девочка. Если бы не его смерть, если бы в самом деле дознались, притянули его к суду, я бы первая встала на его защиту. Когда он схватил меня своими руками, словно клещами, – он был сильный, жилистый, твёрдый, как железо, – и потянул на себя, я не сопротивлялась, сама я ничего не делала, но и сопротивления не оказала; я как будто окоченела. Он тяжело дышал, я даже спросила: “Тебе плохо?”, он не ответил, и потом это снова повторилось, и я совершенно обессилела – от разговора перед тем, как идти к нему, от внезапной бури, от всего. Мы оба были измучены и уснули, как мёртвые».
«А наутро… что же было наутро? Странно сказать – ничего особенного. То есть просто ничего: сели завтракать, он бродил где-то с собакой, потом обедали, потом я стала собираться… Я приезжала к нему, как прежде, и жизнь шла совершенно так, как и раньше, с одной только разницей – мы стали мужем и женой. И всякий раз, когда я собиралась к нему, он ждал меня, как муж жену, и я ехала к нему, как жена к мужу. Раньше я даже представить себе не могла, что можно любить мужчину двойной любовью».
«Выходило, что моя мать просто накликала эту историю; и если так – я благодарна ей. Но после этого, когда всё произошло на самом деле, его больше никуда не вызывали. Кто-нибудь, может, и догадывался, – хотя в деревнях, к таким вещам, по-моему, относятся довольно равнодушно. После этого прошло сколько-то времени, никто нас не тревожил, мы даже осмелели, ходили вместе в деревню, ездили в Полотняный Завод. А однажды чуть не поссорились – до сих пор не пойму, из-за чего. Полили дожди, озеро вышло из берегов; слава Богу, избушка на пригорке, а то бы и нас затопило. Темно было, как вечером. Отец сидел перед печкой, отблески играли на его лице, и глаза светились жутким каким-то, тускло-жёлтым огнём, – или мне сейчас так кажется? Я позвала обедать. Он ни с места. Я подошла к нему, обняла, прижалась сзади грудью. Он сказал: “Я, конечно, понимаю”. Помолчал и добавил: “Понимаю, почему ты со мной”. – “Почему?” – спросила я. Он поднялся, мы стояли, не выпуская друг друга из объятий, не отрывая губ от губ, потом рухнули в постель – среди бела дня, так бывало уже не раз. Потом долго лежали, не говоря ни слова. Наконец, он сказал: “Это из жалости, да?..” Я ответила: “Печка сейчас потухнет”. Он встал, я посмотрела ему вслед и увидела, какой он длинный и тощий, с выступающим позвоночником. Он подбросил дров, закрыл дверцу, вернулся. “Ну что, – сказал он, – насмотрелась?”. Улёгся, и мы снова лежали рядом и молчали. “Дескать, вот он какой несчастный, дай-ка я его пожалею… Из жалости, да?” Я кивнула. “Вот, – сказал он, – я так и знал. Любить меня нельзя”. – “Нельзя”, – сказала я. Он ответил со злобой – и злоба эта вспыхнула так же внезапно, как перед этим желание: “На х… мне твоя жалость! Пошла ты со своей жалостью знаешь куда?” Мне не хотелось его раздражать, да и время шло, я собиралась ехать после обеда. “Всё остыло, – сказала я, – ты немного полежи, я подогрею”. Мне было приятно, что он на меня смотрит, я чувствовала, что его взгляд скользит по моему телу; позови он меня, я бы снова легла. Я подошла – он лежал, подложив под голову жилистые руки, – и сказала: “Да, ты прав. Ничего не поделаешь. Все мы такие. Жалость – это ведь и есть любовь. Сильнее любви не бывает, ты что, этого не понял?”». Он посмотрел на меня и сказал: “Катись ты, знаешь куда? С твоей любовью…”»
«В следующий раз – я теперь ездила к нему каждую неделю, и мне уже было всё равно, что подумает мама: догадалась, так догадалась, – в следующий раз застаю его спокойным, даже почти весёлым. Как вдруг он мне говорит: “Мне надо валить отсюда”. Я уставилась на него. “Уезжать, говорю, надо отсюда”. – “Куда?” – “Откуда приехал”. То есть как это, спросила я, что он там собирается делать? Он усмехнулся и сказал: “Надо возвращаться в родные места. А мои родные места – там”».
«Я встревожилась, но на мои расспросы – что случилось, снова написали, кто-нибудь вызывал его? – он только молча покачивал головой. Он взял мою руку в свои ладони. “Здесь не жизнь. А там… что ж, – он вздохнул, – там всё своё, всё знакомо. Кто там долго жил, тому расхочется выходить на волю, он попросту боится. Я тоже боялся. Мне предлагали остаться вольнонаемным. Куда, дескать, ты поедешь. Кому ты там нужен…”»
Я сказала: «Мне».
«“Тебе? Может быть… Знаешь что? – проговорил он. – Я всё обдумал. Поедем со мной”. – “С тобой?” – “Ну да. И пацана возьмём. Никто там тебя не знает, заживём спокойно. Поженимся: у тебя ведь материна фамилия. Не могу я здесь жить”, – сказал мой отец и вышел. Больше мы к этому разговору не возвращались, я так и уехала, вероятно, он ждал, что я сама заговорю, сама ему отвечу, – а что я могла ответить? Я его любила так, как никого не любила. Вам как медику могу сказать: он меня во всём устраивал. И даже если бы не устраивал, если бы не удовлетворял мои бабьи прихоти, я всё равно бы его любила. Но не могла же я с ним ехать Бог знает куда».
«Кроме того, мне казалось, что это у него такое настроение: нахлынуло и пройдёт. Я даже хотела предложить ему начать снова хлопотать, чтобы разрешили прописку в городе, написать заявление, сама бы занялась этим. И теперь думаю: какая прописка? Не в прописке дело. Я сама была виновата…»
Тут я услышал знакомый скрип ступенек, был первый час ночи. Меня вызывали. Привезли женщину с кровотечением. Моя жизнь продолжалась. Слава Богу, думал я, шагая в темноте и то и дело проваливаясь в сугробы. Перед задним крыльцом общего отделения стояла подвода, лошадь была вся белая. Снег сыпал и сыпал. Слава Богу: в запасе у меня есть две ампулы универсального донора; возможно, понадобится перелить кровь.
Похож на человека
«Вот теперь совсем другое дело. Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, – сказала она, – ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность – это не главное. Есть такая пословица: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, – и она постучала пальцем по его лбу, – вот это главное!»
Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.
Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли все пальцы, выкатился из подворотни, вослед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное – не оглядываться.
Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосый, шатался между партами. «Ты! – сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. – Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, – сказал парень по кличке Пожарник, – дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, – продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. – Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» – крикнул кто-то. В класс вошла учительница. Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась перекличка, фамилии школьников звучали словно впервые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.
Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.
Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрёму, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопрос учительницы; но мысли его были далеко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» – спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, – закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. – А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, – сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшемуся, чтобы уйти, – нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.
«Ну дай, – лениво сказал Пожарник, – чего жмотничаешь-то».
Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».
Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.
«Сам уронил, сам и жри», – молвил Пожарник.
С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»
«Да ничего, – сказал бодро Пожарник. – Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».
«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», – произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.
«Ну-ка, – сказал он, – повернись к свету».
Мальчик озирался.
«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», – задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.
«Ты откуда такой взялся с таким носярой, – продолжал Бацилла, – дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в класс, классная руководительница – это был её урок – уже стояла за своим столом и, очевидно, ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё на место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:
«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что…» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих латах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.
После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте – помнится, её фамилия была Осколкина – сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, – продолжал он, – виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостоин звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», – сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».
«Откуда это ты знаешь», – мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.
«Знаю, – сказала девочка. – Только не скажу».
«Значит, не знаешь».
«А я видела».
«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.
После некоторого молчания она заметила:
«Можешь меня не провожать».
«А я и не собираюсь тебя провожать», – возразил он.
«Я с такими не вожусь».
Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.
«И вообще, – сказала девочка по фамилии Осколкина, – это не метод».
«Что не метод?» – спросил Нос.
«Не метод борьбы», – сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрав хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.