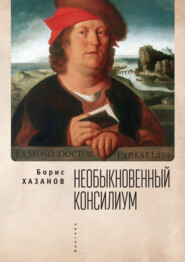По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Черные стяги эпохи
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Время близилось к вечеру, багровое светило моей жизни, под пологом туч, опускаясь, палило в окна, и что же удивительного в том, что мне снова приснилась степь. Очнувшись, я с трудом опознал своё жильё (было уже темно), хотел принять душ, чтобы освежиться, но не мог заставить себя встать на ноги, сон, похожий на обморок, сковал моё тело, а главное, я не мог убедить себя, что нахожусь здесь, а не там. Я сидел, согнувшись, на диване (мне всё-таки удалось сесть), но вполне возможно, что комната, и мой дом, и кресло перед смутно рисовавшимся в потёмках письменным столом – с выдвинутым нижним ящиком – были всего лишь призраком одурманенного мозга, а на самом деле я сижу на кожаном сиденье рядом с шофёром, нас потряхивает, я снимаю фуражку, чтобы утереть пот, солнце спускается к горизонту и слепит глаза. Навстречу плетётся мужик в оборванной одежде. Немного дальше стоят крестьянки с лопатами по обе стороны от дороги, которую они чинят, засыпают выбоины землей. Широкие краснощёкие лица, блондинки с татарской примесью. И глядя на эти сияющие глаза, на эту высокую грудь, покойно дышащую под белой блузкой, и широкую синюю юбку до колен, я испытываю острый укол вожделения, я чуть было не остановил машину, чтобы выйти и обнять степную красавицу, – чёрт возьми, женщины всегда принадлежали победителю!
Около полуночи
На другой день (на другой день после чего? Я листаю мои записи полустолетней давности) я прибыл в штаб 6-й армии в Харькове, куда был прикомандирован с особым поручением; к этому времени некоторые решающие события весны и лета уже были позади. Противник предполагал начать крупномасштабное наступление, Сталин хотел доказать себе и всему своему народу, что наше поражение под Москвой не было следствием внезапно грянувших полярных морозов. И что же? За каких-нибудь пять дней генерал Клейст со своими одиннадцатью дивизиями рассёк и опрокинул русских, форсировал Северский Донец юго-восточнее Харькова и соединился с 6-й армией Паулюса – три русских армии оказались в котле. У меня записан разговор с одним высоким чином в главной квартире: «Жаль, что нам не попался в руки Тимошенко. Фюрер заготовил для него Железный крест с дубовыми листьями в благодарность за всё, что он сделал для нашего успеха».
Кто такой был Тимошенко? (Если я правильно воспроизвожу это имя). Не могу вспомнить. Да и кого это может интересовать. Какой-то бездарный большевистский маршал, потерявший целиком две армии возле Барвенково, говорят, Сталин его потом сослал в Сибирь… Стремительное продвижение к Донцу – две недели спустя мы уже юго-западней Купянска, в июле – Острогожск…
Кончено; под этим давно подведена черта. Прихлёбывая старый, верный арманьяк, напиток, к которому я всегда испытывал слабость, я вспомнил фразу одной француженки: «L’alcool dеgrise. Apr?s quelques gorgеes de cognac, je ne pense plus ? toi»[12 - Алкоголь отрезвляет. Два-три глотка коньяку, и я о тебе больше не думаю. (Маргерит Юрсенар; фр.).]. И всё-таки… всё-таки. Нельзя сказать, чтобы я так уж часто вспоминал обо этих временах, бесконечно далёких; разве только изредка, во сне; а тут, по-видимому, произошло то, о чём говорит Пруст, только роль petites madeleines[13 - Бисквитное пирожное; см. «В сторону Свана. Комбре».] сыграл этот злополучный концерт в доме Франциски Z, вдруг воскресивший в памяти тусклое сияние керосиновой лампы. А там уже банка с алой «лизхен», радиоприёмник на столе у полкового командира, которого я навестил в связи с необходимостью уточнить кое-какие подробности нашего наступления… То, что определённо представлялось закрытой главой жизни, – подобно тому, как сдают в архив судебное дело, – приходится поднимать сызнова, как говорят юристы, «в виду вновь открывшихся обстоятельств».
Среда
Я, кажется, упоминал о том, что подростками мы провели несколько лет в Салемском монастыре, где незадолго до того Курт Ган основал на деньги принца Макса Баденского школу-интернат. Наша детская любовь окончилась тем, что отец взял Франциску из школы, семья переехала в Эгерланд, в бывшую Судетскую область (я не люблю это название, предпочитаю по-старинке называть её Немецкой Богемией), в поместье, полученное в наследство от тётки. Что происходило в конце войны, известно; по чешскому радио прохрипел голос нового президента Бенеша: «Горе немцам, мы покончим со всеми». Он добавил: «У них останутся только носовые платки, утирать слёзы». Какое там утирать слёзы. Никто не знает, сколько людей среди сотен тысяч изгнанных, бежавших, волоча за собой ручные тележки с детьми и старухами, погибло от голода и болезней в пути, а то и попросту было убито. Те, кто уцелел, разбрелись кто куда, по Австрии, по Баварии. Когда я прибыл домой из плена, оказалось, что Франци – моя соседка. Её супруг, как я уже говорил, вернулся из России, когда уже никакой надежды на возвращение не оставалось. Мы оба встречали его на перроне. Барона вынесли из вагона на носилках.
В тот же вечер Z сказала мне, что наши отношения должны быть прекращены. Я согласился с ней. Франци было в это время сорок с чем-то, и можно сказать, что она была в расцвете красоты: всё, чем она пленяла меня, было при ней. Франци – типичная баварка, из тех невысоких, дивно сложенных, темноглазых и темноволосых женщин с явной примесью латинской крови, которых считают потомками римских легионеров. Мы сидели – отлично помню – в полуосвещённой гостиной, той самой, где я играл пять дней назад Шумана, в те времена она была, конечно, обставлена не так, как теперь. Было заполночь. Больной спал наверху. Я встал, чтобы проститься. Она остановила меня.
«Ты должен понять, – сказала она. – Мы оба должны понять… Он перенёс столько мук. Он воевал за отечество. Да и ты тоже».
«Я не знаю, за кого я воевал», – возразил я.
«Не понимаю».
«Не за этих же ублюдков».
«Я говорю об отечестве… Хорошо, – сказала она, – не будем об этом, я женщина, политика меня не касается. Я женщина, и я тебя люблю. Я и его люблю».
«Франци, – сказал я. – Тебе не в чем оправдываться. Нам обоим не в чем оправдываться. Что было, то было. У тебя теперь новые обязанности. Останемся друзьями».
И я снова поднялся; мы стояли друг против друга.
«Alors, с’est arr?tе?» – сказал я, улыбаясь.
«C’est arr?tе[14 - Так решено? Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена (фр.).]. Посидим ещё немножко».
Она вышла. Я сидел, заложив ногу за ногу, на канапе и смотрел на язычки пламени. Франциска любила сидеть при свечах.
Она вошла в домашнем халатике, туго подпоясанная.
Видимо, она хотела что-то добавить к разговору, но всё уже было сказано, и я подумал, что мне следовало бы исчезнуть до её возвращения.
«Я уж думала, ты не дождался и ушёл. Неужели это последний вечер, – проговорила она, садясь рядом со мной. – Но ведь мы остаёмся добрыми друзьями, ты сам сказал… Барон тебя ценит. Ты будешь по-прежнему бывать у нас. А когда он немного окрепнет, мы сможем все вместе куда-нибудь поехать».
«Куда?» – спросил я.
«Куда-нибудь далеко. – Она встала. – Но имей в виду…»
С мечтательно-отсутствующим выражением, которое было мне так знакомо, вздохнув: «Имей в виду. Мы дали друг друг другу слово. Мы прерываем наши отношения, чтобы… чтобы навсегда сохранить память о нашей… да. И о том, как мы отказались друг от друга…»
Как давно это было. И как недавно… Вступительная речь окончена, халат лежит на полу, в мистическом сиянии Франциска стояла передо мной в чёрном ореоле волос, невысокая, сложенная, как богиня, с узкими опущенными плечами, с повисшими вдоль стана руками, с кружками сосков и треугольником в широкой чаше бёдер. В этой позе – я чуть не сказал, в позировании – было что-то трогательно-нелепое, почти пародийное, словно мы разыгрывали сцену соблазнения. И при этом она остро, исподтишка следила замной. Я понимал, что малейшая усмешка, лёгкое движение губ испортили бы всё. Да я и сам, кажется, поддался этому настроению. Это продолжалось две-три секунды, не больше; тотчас она отвернулась, якобы устыдившись; известная театральность всегда была чертой её характера и поведения. Вероятно, она полагала, что таким способом исполнила свой долг по отношению к мужу, и не её вина, что обстоятельства оказались сильней её добродетели. К числу этих обстоятельств, разумеется, принадлежала невозможность возобновить супружеские отношения с бароном. Поразительная свежесть воспоминаний. Сладкая судорога, о которой вспоминаешь сейчас, как о потерянном рае… Мне незачем добавлять, что всё между нами осталось по-старому.
Третий час ночи с четверга на пятницу
Итак, я с ним увиделся, это было вчера… Или позавчера? Я что-то путаю. Конечно, было бы лучше записывать по свежим следам. Но мне надо было собраться с мыслями, переварить этого человека.
Я редко пользуюсь машиной в городе; обыкновенно оставляю свой BMW на стоянке в Пазинге, оттуда до центра на S-Bahn[15 - Пригородные железнодорожные линии, соединённые с сетью метрополитена.]. Выехав наружу на эскалаторе перед новой ратушей, я пересёк площадь, вошёл в подъезд за углом и поднялся на лифте. Хорошо помня взгляд этого господина, я совершенно не представлял себе, как он выглядит. Кроме того, как известно, там есть ещё один зал. Заведение процветает, это было видно по тому, что даже в эти часы ресторан не пустовал. Ни одного лица, которое напомнило бы мне человека, назначившего свиданье; как вдруг сзади раздался его голос с англосаксонским акцентом: он извинился, что заставил меня ждать. Я возразил, что сам пришёл только что. Первые реплики очевидным образом предназначались для того, чтобы умерить обоюдное смущение.
Молодой человек был лет сорока с небольшим, выше меня ростом, полноват, даже несколько рыхл и мешковат, широкое розовое лицо, ранняя лысина. Предупредителен, пожалуй, даже слишком любезен. Суетился, подвигая мне стул. Преодолеть неловкость было, однако, нелегко, и сейчас я спрашиваю себя: в чём дело? Он просил меня о встрече, он хотел поговорить «по одному вопросу», – по какому вопросу? Поняв, что он мне малосимпатичен, что я недоумеваю, зачем нам понадобилось увидеться, он смутился ещё больше, забывал немецкие слова, разговор перескакивал с одного языка на другой. Он немного рассказал о себе: ничего интересного. Холост, окончил экономический колледж в Пенсильвании. Служит в какой-то фирме. Что его привело в Европу? Он отвечал без видимой охоты, а на мой вопрос, откуда он знает немецкий, развёл руками.
Словом, разговор не клеился и даже принял какой-то мучительный характер; еда казалась невкусной; надо было прощаться, но что-то удерживало меня и его, он как будто не решался приступить к делу, если у него было ко мне вообще какое-нибудь дело; я не пытался его ободрить; разливая остатки вина, я дал знак кельнеру принести вторую бутылку, и спросил:
«Вы любите музыку?»
«Пожалуй, – сказал он. – А что вы играли?»
Вздохнув, я молча воззрился на него. Он даже не знал, что исполнялось!
Он пробормотал:
«Германия – очень музыкальная страна».
«Чего нельзя сказать об Америке?» – съязвил я и тотчас пожалел об этом. Потупив взгляд, он кивал, но не в знак согласия, а как будто отвечая своим мыслям; поднял голову и спросил, можно ли задать мне один вопрос.
«Вы курите?»
«Нет», – сказал я.
«Я тоже не курю».
«Вы это и хотели спросить?»
Он следил исподлобья за официантом, который плеснул серый бордо в мой бокал. Я отпил, кивнул, официант разлил вино по бокалам. Молодой человек произнёс:
«Вы, вероятно, были участником войны?»
«Так точно».
Он усмехнулся. Отставил в сторону свой бокал, отодвинул тарелку и вытащил из кармана деревянную игрушку, полосатый шарик, насаженный на ось. В моём детстве это называлось Kreisel. Игрушка была старой, от цветных полос почти ничего не осталось. Он крутанул ось двумя пальцами, шарик завертелся на столе и слетел на пол. С соседних столиков поглядывали на нас; мой собеседник наклонился, волчок вращался и описывал круги у нас под ногами.
Кисло улыбнувшись друг другу, мы подняли кубки.
Пятница, после полуночи
Июль сорок второго года! Для нас нет ничего невозможного, мы занимаем всё новые территории, преследуем противника по двум основным направлениям, южному и юго-восточному; согласно стратегическому плану, наступление идёт в обход Азовского моря и дальше на Кавказ, это одно направление, и от Дона до Волги к Сталинграду – другое.
Ужасный случай, – здесь, в этих старых записях, о нём лишь глухое упоминание, почему? Из-за боязни, что дневник попадётся кому-нибудь на глаза, или – что кажется мне сейчас правдоподобней – оттого, что я гнал от себя все сомнения, оттого, что мы не хотели слышать, не хотели знать ни о чём, что бросало чёрную тень на все наши представления о воинской чести? Немецкий солдат не воюет с мирным населением! Немецкий солдат защищает мирных жителей, женщин, детей от бандитов – партизан, о жестокости которых ходили страшные слухи. И вот этот немецкий солдат, выполняя приказ немецкого офицера, сжигает из огнемёта крестьянскую избу только потому, что в ней будто бы ночевали партизаны, или отнимает последнее у детей и старух, обрекая их на голодную смерть, так как ему вдолбили, что это отсталый народ, неполноценная раса.
Или этот эпизод (о котором мне рассказал майор N), когда в деревню прибыл с подразделением армейских СС некто Бенке, страшный человек, по которому – говорю это с полным основанием – плачет верёвка. Не знаю, куда он делся после капитуляции, дожил ли вообще до конца войны… Опять-таки в дневнике – краткое и невнятное упоминание. И я снова спрашиваю себя: что это, политическая осторожность? Нежелание признаться, что мы, вторгшиеся в эту страну, о которой у нас не было никакого представления, явившиеся как освободители, – мы повели себя не лучше сталинских сатрапов? Бенке распорядился отобрать десять мужчин среди жителей, им связали руки за спиной и погнали по дороге, которую заминировали партизаны. Люди падали лицом вперёд среди взрывов. И ведь это происходило не раз. Спустя немного времени отряд Бенке, рыскавший по окрестностям, наткнулся на убитых немцев, два десятка трупов, у которых были выколоты глаза, отрезаны уши и половые органы, это сделали партизаны. В ответ было истреблено всё население округи, сожжены деревни, заколоты штыками грудные дети… А ведь совсем ещё недавно нашу армию встречали с ликованием, выстраивались вдоль дорог. Нам навстречу выбегали с цветами, с угощением…
Да, скажут мне, но это СС, чёрная рать на службе у политиков. Не путайте её с немецким солдатом. Немецкий солдат защищает отечество, политика – не его дело. Увы, я могу в ответ лишь пожать плечами. А что сказать о смутных, страшных слухах, которые всё больше распространялись – и в конце концов подтвердились! – о том, что по всей Европе, во всех покорённых областях идёт охота на евреев. Во что превратилось моё отечество?