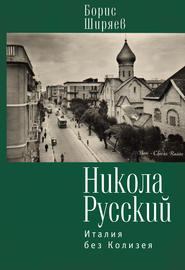По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неугасимая лампада
Автор
Серия
Год написания книги
1954
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И женщины жуют табак…
Недоступное, недостижимое даже для мечты встает явью перед глазами, становится реальным, ощутимым… Огни рампы творят свое дивное таинство…
В перчатках черных дама
Вошла в притон и смело
Там негру приказала
Подать вина…
Нет, это входит уже не свояченица командира СОП и не изображающий блистательного «незнакомца» Мишка Егоров в извлеченном из чемодана умопомрачительном, яростно-клетчатом жакете. Не вымазанный сажей князь О-ский ставит перед ними оплетенную соломой фиаску. Это…
Что это?
– Романтика папиросных реклам, – пренебрежительно процедил о постановке «Марселя» Глубоковский, и тогда я не возражал ему. Но теперь, оглядываясь на пройденную вереницу лет серой советской обезлички, истомленный нудной жвачкой затасканных слов, бескрасочностью, беззвучием расползшейся на всю Россию социалистической каторги-казармы, я понимаю, почему в зрительном зале соловецкого театра тогда стало тише, чем в притоне «Трех бродяг».
Стало тихо в первый раз, И никто не мог никак Оторвать от дамы глаз.
Теперь я с глубокой благодарностью и хвалой вспоминаю тех, кто тогда захватил, сумел и смог показать соловецким каторжанам «музу дальних странствий», хотя бы и в аляповатом наряде «папиросной рекламы»!
Пусть так. Свое – высокоодаренному поэту Гумилеву, но свое – и безвестному, безымянному бродяге. Они оба имели право на жизнь и радость.
Следующим номером шел мой сатирический скетч, заостренный против нашей «рабсилы» – надсмотрщиков из числа заключенных, в большинстве из грузин-повстанцев. Это был уже рискованный номер. Он начинался сценическим трюком: загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врывались на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник.
Трюк был настолько близок к соловецкой действительности, что публика приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал:
– Кто разрешил ударник? Убрать рабсилу к черту!
После этого услышанного всем залом восклицания владыки острова осмелевшие актеры под сочувственный рокот зала стали с удвоенной силой метать отравленные стрелы сатиры в ненавистных, продавшихся отщепенцев, заклейменных кличкой «ссученные»[7 - Слово «ссученный», на жаргоне каторги – подхалим, продажная душа, происходит от слова «сука». Ссучиться – стать сукой. —Б. Ш.].
Но самый рискованный момент был еще впереди. Почти в конце программы шла коротенькая веселая пьеска с пением и танцами «Любовь – книга золотая», автором которой был Н.К. Литвин.
Надо пояснить, что любовь во всех ее видах была преследуема и гонима на Соловках, и уличенному в этом преступлении Ромео полагалось не менее трех месяцев Секирки, а Джульетте – столько же Зайчиков. И все же «золотая книга» – вечная книга – читалась.
Специальным и утвержденным свыше гонителем любви в Соловецком кремле, ее Торквемадой и неутомимым охотником на Ромео и Джульетт был ссыльный чекист Райва, одевавшийся всегда в длинную кавалерийскую шинель и носивший на голове неимоверно грязную белую кавалергардскую фуражку. Его фигура была известна всем, и пьеска Литвина заканчивалась именно ее внезапным появлением и паническим бегством застигнутых любовников.
Сам Райва сидел в первом ряду и с большим удовольствием смотрел программу.
Вдруг его точный двойник в неизменной кавалергардской фуражке выскочил на сцену и обратил в бегство слившихся в поцелуе счастливцев.
– Райва! – в диком восторге взвыла шпана.
Подлинный Райва инстинктивно схватился за голову… На ней была на этот раз не традиционная фуражка, а надетая второпях перед спектаклем меховая ушанка.
Но на него уже, смеясь, смотрел весь первый ряд: и защитница соловецкой любви нач. санчасти М.В. Фельдман, жена члена коллегии ОГПУ, сосланная им самим на остров именно для охлаждения ее бурного темперамента, и грубый, но прямодушный Баринов, и сам Эйхманс.
К чести Райвы нужно сказать, что в дальнейшем он не мстил за «критику» и, получая обратно выкраденную у него перед самым спектаклем фуражку, лишь буркнул:
– В другой раз не сопрете. Спать в ней теперь буду.
Но воровать ее не пришлось ни вторично, ни третично: на повторные спектакли ХЛАМа Райва давал ее сам и, сидя в первом ряду, неизменно аплодировал своему сценическому двойнику.
– Ишь, с… дети, чего понастроили!
Совсем не так отнеслись к сатире на них надсмотрщики рабсилы. Они подали Эйхмансу официальное заявление, обвиняя автора скетча в подрыве их служебного авторитета, и требовали строгого его наказания и запрещения пьесы. Эйхманс порвал этот рапорт. Тогда они начали систематическую травлю меня и изображавших их на сцене актеров, назначая нас на самые тяжелые работы. Эта травля была прекращена тем же Эйхмансом, которому Коган доложил об их действиях.
Первый спектакль ХЛАМа имел бурный успех и в верхах, и в низах Соловков, главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но все же дыхание свободы, а тосковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях рампы ту затаенную мечту, в которой признаться даже самому себе было бы постыдным ребячеством, – мечту о «дальних странствиях».
Первая программа ХЛАМа была повторена три раза, и его руководителям был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся «разгрузочной комиссии» из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием.
– Можно и перцу подсыпать? – спросил в упор Эйхманса Глубоковский, получая заказ.
– Валите, не стесняйтесь, – ответил тот, – только чтобы было ярко и остроумно.
Весть об этом взбудоражила всех хламистов.
– Как? Свободно? Так что можно будет и правду сказать?
Скептики каркали:
– Ляпните эту правду и срок себе прибавите. Но горячие головы не робели:
– Черт с ним, со сроком, зато…
Мудрый, знавший людскую душу и душу зрителя старик Борин одобрял:
– Можно. Генералы любят больше всего анекдоты именно о самых генералах. Ничего нет нового под луной. Валите!
И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни ХЛАМа спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившем его имя взамен монастырского «Святой Савватий».
Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей. К рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию.
Шептали все…
Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп:
Нас разгружать сюда приедет
На «Глебе Боком» – Бокий Глеб, —
звучит первый куплет приветствующей «разгрузку» песни.
Хор подхватывает рефрен:
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами,
Проживите здесь годочка три иль пять,
Будете с восторгом вспоминать!
Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами:
В волненье все, но я спокоен.
Весь шум мне кажется нелеп:
Недоступное, недостижимое даже для мечты встает явью перед глазами, становится реальным, ощутимым… Огни рампы творят свое дивное таинство…
В перчатках черных дама
Вошла в притон и смело
Там негру приказала
Подать вина…
Нет, это входит уже не свояченица командира СОП и не изображающий блистательного «незнакомца» Мишка Егоров в извлеченном из чемодана умопомрачительном, яростно-клетчатом жакете. Не вымазанный сажей князь О-ский ставит перед ними оплетенную соломой фиаску. Это…
Что это?
– Романтика папиросных реклам, – пренебрежительно процедил о постановке «Марселя» Глубоковский, и тогда я не возражал ему. Но теперь, оглядываясь на пройденную вереницу лет серой советской обезлички, истомленный нудной жвачкой затасканных слов, бескрасочностью, беззвучием расползшейся на всю Россию социалистической каторги-казармы, я понимаю, почему в зрительном зале соловецкого театра тогда стало тише, чем в притоне «Трех бродяг».
Стало тихо в первый раз, И никто не мог никак Оторвать от дамы глаз.
Теперь я с глубокой благодарностью и хвалой вспоминаю тех, кто тогда захватил, сумел и смог показать соловецким каторжанам «музу дальних странствий», хотя бы и в аляповатом наряде «папиросной рекламы»!
Пусть так. Свое – высокоодаренному поэту Гумилеву, но свое – и безвестному, безымянному бродяге. Они оба имели право на жизнь и радость.
Следующим номером шел мой сатирический скетч, заостренный против нашей «рабсилы» – надсмотрщиков из числа заключенных, в большинстве из грузин-повстанцев. Это был уже рискованный номер. Он начинался сценическим трюком: загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врывались на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник.
Трюк был настолько близок к соловецкой действительности, что публика приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал:
– Кто разрешил ударник? Убрать рабсилу к черту!
После этого услышанного всем залом восклицания владыки острова осмелевшие актеры под сочувственный рокот зала стали с удвоенной силой метать отравленные стрелы сатиры в ненавистных, продавшихся отщепенцев, заклейменных кличкой «ссученные»[7 - Слово «ссученный», на жаргоне каторги – подхалим, продажная душа, происходит от слова «сука». Ссучиться – стать сукой. —Б. Ш.].
Но самый рискованный момент был еще впереди. Почти в конце программы шла коротенькая веселая пьеска с пением и танцами «Любовь – книга золотая», автором которой был Н.К. Литвин.
Надо пояснить, что любовь во всех ее видах была преследуема и гонима на Соловках, и уличенному в этом преступлении Ромео полагалось не менее трех месяцев Секирки, а Джульетте – столько же Зайчиков. И все же «золотая книга» – вечная книга – читалась.
Специальным и утвержденным свыше гонителем любви в Соловецком кремле, ее Торквемадой и неутомимым охотником на Ромео и Джульетт был ссыльный чекист Райва, одевавшийся всегда в длинную кавалерийскую шинель и носивший на голове неимоверно грязную белую кавалергардскую фуражку. Его фигура была известна всем, и пьеска Литвина заканчивалась именно ее внезапным появлением и паническим бегством застигнутых любовников.
Сам Райва сидел в первом ряду и с большим удовольствием смотрел программу.
Вдруг его точный двойник в неизменной кавалергардской фуражке выскочил на сцену и обратил в бегство слившихся в поцелуе счастливцев.
– Райва! – в диком восторге взвыла шпана.
Подлинный Райва инстинктивно схватился за голову… На ней была на этот раз не традиционная фуражка, а надетая второпях перед спектаклем меховая ушанка.
Но на него уже, смеясь, смотрел весь первый ряд: и защитница соловецкой любви нач. санчасти М.В. Фельдман, жена члена коллегии ОГПУ, сосланная им самим на остров именно для охлаждения ее бурного темперамента, и грубый, но прямодушный Баринов, и сам Эйхманс.
К чести Райвы нужно сказать, что в дальнейшем он не мстил за «критику» и, получая обратно выкраденную у него перед самым спектаклем фуражку, лишь буркнул:
– В другой раз не сопрете. Спать в ней теперь буду.
Но воровать ее не пришлось ни вторично, ни третично: на повторные спектакли ХЛАМа Райва давал ее сам и, сидя в первом ряду, неизменно аплодировал своему сценическому двойнику.
– Ишь, с… дети, чего понастроили!
Совсем не так отнеслись к сатире на них надсмотрщики рабсилы. Они подали Эйхмансу официальное заявление, обвиняя автора скетча в подрыве их служебного авторитета, и требовали строгого его наказания и запрещения пьесы. Эйхманс порвал этот рапорт. Тогда они начали систематическую травлю меня и изображавших их на сцене актеров, назначая нас на самые тяжелые работы. Эта травля была прекращена тем же Эйхмансом, которому Коган доложил об их действиях.
Первый спектакль ХЛАМа имел бурный успех и в верхах, и в низах Соловков, главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но все же дыхание свободы, а тосковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях рампы ту затаенную мечту, в которой признаться даже самому себе было бы постыдным ребячеством, – мечту о «дальних странствиях».
Первая программа ХЛАМа была повторена три раза, и его руководителям был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся «разгрузочной комиссии» из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием.
– Можно и перцу подсыпать? – спросил в упор Эйхманса Глубоковский, получая заказ.
– Валите, не стесняйтесь, – ответил тот, – только чтобы было ярко и остроумно.
Весть об этом взбудоражила всех хламистов.
– Как? Свободно? Так что можно будет и правду сказать?
Скептики каркали:
– Ляпните эту правду и срок себе прибавите. Но горячие головы не робели:
– Черт с ним, со сроком, зато…
Мудрый, знавший людскую душу и душу зрителя старик Борин одобрял:
– Можно. Генералы любят больше всего анекдоты именно о самых генералах. Ничего нет нового под луной. Валите!
И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни ХЛАМа спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившем его имя взамен монастырского «Святой Савватий».
Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей. К рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию.
Шептали все…
Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп:
Нас разгружать сюда приедет
На «Глебе Боком» – Бокий Глеб, —
звучит первый куплет приветствующей «разгрузку» песни.
Хор подхватывает рефрен:
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами,
Проживите здесь годочка три иль пять,
Будете с восторгом вспоминать!
Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами:
В волненье все, но я спокоен.
Весь шум мне кажется нелеп: