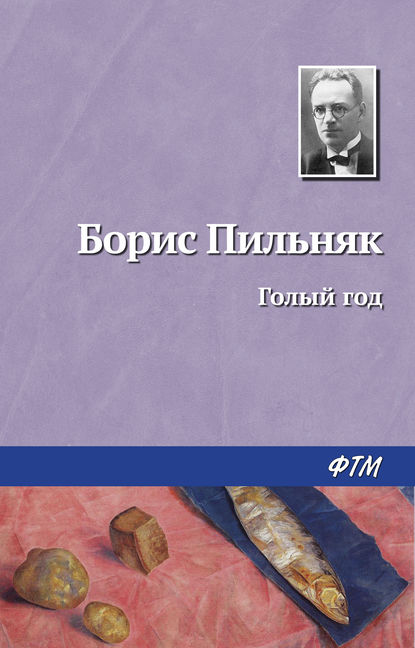По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голый год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван Спиридонович, на черной своей половине, в своей комнате, лег на диван, лицом к стене, и сейчас же уснул крепким сном. Рассвет пришел серою мутью, заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, и Иван Спиридонович проснулся. Горела свеча, за окнами был туман, свеча начадила, и пахнуло гарью. Иван Спиридонович подумал, что во сне он ничего не чувствовал, и прошли эти часы с вечера до зари совсем не страшно, как один миг. Тогда он встал и прошел на кухню, взял там из угла с полки револьвер, по дороге посмотрелся в зеркало, увидел хмурое свое и серьезное лицо, вернулся в свою комнату, дотушил свечу, сел на диван и выстрелил себе в рот.
Глава II
ДОМ ОРДЫНИНЫХ
Город из камня. И неизвестно, кто по кому: князья ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин прозвался по князьям? – князья же Ордынины сроднились с Попковыми.
Часы у зеркала – бронзовые пастух и пастушка (еще уцелевшие) – здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический осьмнадцатый век, им отвечает кукушка из спальной матери, Арины Давыдовны, – и кукушка кричит пятнадцать, и кукушка – как Азия, Закамье, татарщина. И третьи часы бьют в соборе: дон-дон-дон!.. – Тогда опять в большом доме немотно. Где-то скрипнула половица, рассохшаяся после зимней сырости. У дома на взвозе горит фонарь, свет его бороздит лепной пообвалившийся потолок, дробится в люстре – тоже еще уцелевшей. Красным огоньком ровно вспыхивает папироса Глеба у окна, окна же со стеклами в радуге взмазаны крепко, навсегда. За те два года, что не было Глеба, дом верно полетел в пропасть, – он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. Впрочем, каинова печать припечатана уже давно.
Ровно вспыхивает папироса у окна, Глеб прислушивается к старому дому. В этом доме прошла его юность, та, которая казалась всегда светлой безмерно и ясной, – и теперь двоится мороком революции. И боль: уже без мечты о живописи и о молитве, – и о светлой девушке. В зале на стенах старинные портреты без рам. Огромный, желтый рояль ощерился, как бульдог, а в углу поставлены ширмы и за ширмами узкая кровать Глеба. В зале, за крепкими рамами, пахнет нежильем и сыростью, и едва примешивается запах красок и клея – художнический запах. Тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и помутнели. Луна светит за окнами бледным предутренним светом. Ночь, – надо быть бодрым!
Снова бьют субтильно и стеклянные часы, осьмнадцатый век, и отвечает кукушка Азии. И сейчас же за часами, вместе с соборным перезвоном, робко звякает звонок внизу, в подъезде, и опять приходит тишина, спит ночной дом. Тогда Глеб зажигает огарок, – вспыхивает красный огонек, отбегают поспешно, мутнея, синие, ночные тени, – освещают лицо Глеба с сбившимися его волосами, с кривым и тонким носом, с большим, как на иконах, лбом – и лицо иконописно.
Около спальной матери, в полуоткрытую дверь слышен храп – матери, урожденной Попковой, и Елены Ермиловны, и оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца, – через щель видит Глеб, – у киота горит много тусклых лампад и высоких, тонких свечей, и Глеб видит у киота склоненного в молитве отца, видна худая его спина в халате и седые, совершенно белые его волосы. Видно лицо отца: в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде, всклокоченной и серой, – экстазное что-то – или, быть может, сумасшедшее?.. Всю жизнь разгульничал отец, князь Ордынин, в молодости укрепивший свое состояние, по безволию, капиталами Попковых, – а первой весной в революцию, когда разливались реки обильными своими весенними водами, – изменил круто свою жизнь: из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве.
В подъезде идет широкая лестница вниз, в корытце истоптанная тысячами ног. Здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мехами. По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые – тяжелые железные двери за семью замками: за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленое, должно быть?) веками и развеянное теперь – по базарам, по отделам утилизации и коммунхоза. – Слабо горит свеча. Глеб отворяет первую дверь парадного и спрашивает через вторую:
– Кто там?
Ему не сразу отвечают. Становится очень тихо, и слышно, как в парке поет малиновка.
– А это кто? – это вы, Глеб Евграфович? – спрашивает из-за дверей женский голос.
– Я. Кто там?
– Это мы, я, Марфуша, да Егор Евграфович.
– Егорушка?
И Глеб быстро отпирает двери, чтобы увидеть родного своего старшего брата Егора.
…И за дверью идет пьяная июньская ночь…
Егор пьян. Он молчит. Красные его выпуклые глаза бессмысленны, но все же всегдашняя в них мягкость и сейчас смущение. Он в одной нижней рубашке, рваной и грязной, и босиком. Сзади Егора стоит Марфуша, – дальний отпрыск далеких дворовых крепостных. От Егора скверно пахнет – денатуратом и потом. Он неуверенно и смущенно отвечает на горячие поцелуи брата.
– Егорушка, милый!.. – говорит Глеб, обнимая брата.
Егор молчит.
– Что же ты молчишь? Не рад?
– Мне стыдно, брат, – говорит Егор трудно. – Мне очень стыдно, что так мы с тобою встретились. Брат, тебе неприятно меня целовать, не целуй! Я не осужу тебя, брат!..
Но Глеб без слов сильнее прижимает костлявую грудь Егора и целует его губы и лоб.
– Я рад тебя видеть, Егор!..
– Брат! Я украл у Натальи пальто и пропил его. Я украл!.. Я не хотел совсем приходить, но меня нашла Марфуша. Мне стыдно… Матушка спит?.. А Борис? Ненавижу его, презираю!.. Марфуша меня нашла… Я там с проституткою был…
Глеб, девственник, смущенно прерывает Егора.
– Егор, что ты? Нельзя так! – говорит он, как умеют говорить только девственники, и, извиняясь за брата, взглядывает виновато на Марфушу.
И Марфуша понимает его, обесчещенная девственница: уж очень измученно смотрят ее поблекшие глаза. Очень устало и поэтому хорошо говорит она:
– Ах, батюшка, Глеб Евграфович!.. Вот жакетку они взяли у Наталии Евграфовны!.. Как бы это, а?.. Я бы свою отдала, да не знаю, где выкупить… Вы бы поговорили с Натальей-то Евграфовной, чтобы барыне Арине Давыдовне не сказывала… А то Арина-то Да-выдовна – затерзат.
Глеб поспешно отвечает:
– Конечно, поговорю. Конечно…
– Глеб, матушка спит?
– Спит, да.
– Я ее боюсь, да!
Егор опирается о плечо брата. Мелкою, зябкою дрожью дрожит худое его тело. Горит свеча.
– Глеб, я был там… Там разврат!.. Ты меня сейчас остановил. Думаешь, я не понял? Ты – чистый человек. Но и я знаю, что такое чистота, – говорит Егор и тихо добавляет: – Сейчас бы поиграть…
У комнаты отца Егор останавливается на минутку, заглядывает и шепчет не то со смешком, не то покаянно:
– Не выдержал. Мерзости не выдержал! Вместе пили. Тогда я только пил, но был чистым. Понимаешь?
А у матерниной комнаты он ежится и бесшумно скользит мимо. В зале Глеб отдает ему свое платье. Горит свеча, освещая образ богоматери на мольберте, иконописное лицо Глеба и голое тело Егора. – Глеб – сознательно ли? – прячет богомать от Егора. Егор опирается о дверь, никнет бессильно головой, молчит, соображая, затем говорит тихо:
– Спасибо тебе, брат! Ты – брат!.. Борис – он не брат! Знаешь, он обесчестил Марфушу… Молчи, знай… Мы вместе пили. Потом он запер меня на крючок и пошел к Марфуше. Внизу. Я все слышал.
Снова молчит. Снова говорит:
– Поиграть бы сейчас на рояле… Но – спят!.. Спи, брат, святым сном! Я уже не могу!
И опять тишина. Опять тлеет папироса Глеба. За домом идет июнь, и в доме залегла зима.
По узкой лестнице, с выбитыми ступеньками и скрипучими перилами, Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широки и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, а на пустых ларях пудовые замки, и ключи под подушкой у матери.
– Егор Евграфович, я это… Провожу вас!.. – устало и любяще говорит Марфуша.
– Уйди, не могу простить! Иди к Борису. Иди.
– Егор Евграфович…
– Молчи!..
Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна, с низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике – лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно к двери. У двери стоит Марфуша.
– Марфа! – говорит трудно Егор. – Никто, кроме брата, не виноват. Но ты не знаешь. Ты не знаешь, что в мире есть закон, которого не прейдеши, и он велел быть чистым. Над землею величайшее очищение прошло – революция. Ты не знаешь, какая красота…
Глава II
ДОМ ОРДЫНИНЫХ
Город из камня. И неизвестно, кто по кому: князья ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин прозвался по князьям? – князья же Ордынины сроднились с Попковыми.
Часы у зеркала – бронзовые пастух и пастушка (еще уцелевшие) – здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический осьмнадцатый век, им отвечает кукушка из спальной матери, Арины Давыдовны, – и кукушка кричит пятнадцать, и кукушка – как Азия, Закамье, татарщина. И третьи часы бьют в соборе: дон-дон-дон!.. – Тогда опять в большом доме немотно. Где-то скрипнула половица, рассохшаяся после зимней сырости. У дома на взвозе горит фонарь, свет его бороздит лепной пообвалившийся потолок, дробится в люстре – тоже еще уцелевшей. Красным огоньком ровно вспыхивает папироса Глеба у окна, окна же со стеклами в радуге взмазаны крепко, навсегда. За те два года, что не было Глеба, дом верно полетел в пропасть, – он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. Впрочем, каинова печать припечатана уже давно.
Ровно вспыхивает папироса у окна, Глеб прислушивается к старому дому. В этом доме прошла его юность, та, которая казалась всегда светлой безмерно и ясной, – и теперь двоится мороком революции. И боль: уже без мечты о живописи и о молитве, – и о светлой девушке. В зале на стенах старинные портреты без рам. Огромный, желтый рояль ощерился, как бульдог, а в углу поставлены ширмы и за ширмами узкая кровать Глеба. В зале, за крепкими рамами, пахнет нежильем и сыростью, и едва примешивается запах красок и клея – художнический запах. Тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и помутнели. Луна светит за окнами бледным предутренним светом. Ночь, – надо быть бодрым!
Снова бьют субтильно и стеклянные часы, осьмнадцатый век, и отвечает кукушка Азии. И сейчас же за часами, вместе с соборным перезвоном, робко звякает звонок внизу, в подъезде, и опять приходит тишина, спит ночной дом. Тогда Глеб зажигает огарок, – вспыхивает красный огонек, отбегают поспешно, мутнея, синие, ночные тени, – освещают лицо Глеба с сбившимися его волосами, с кривым и тонким носом, с большим, как на иконах, лбом – и лицо иконописно.
Около спальной матери, в полуоткрытую дверь слышен храп – матери, урожденной Попковой, и Елены Ермиловны, и оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца, – через щель видит Глеб, – у киота горит много тусклых лампад и высоких, тонких свечей, и Глеб видит у киота склоненного в молитве отца, видна худая его спина в халате и седые, совершенно белые его волосы. Видно лицо отца: в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде, всклокоченной и серой, – экстазное что-то – или, быть может, сумасшедшее?.. Всю жизнь разгульничал отец, князь Ордынин, в молодости укрепивший свое состояние, по безволию, капиталами Попковых, – а первой весной в революцию, когда разливались реки обильными своими весенними водами, – изменил круто свою жизнь: из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве.
В подъезде идет широкая лестница вниз, в корытце истоптанная тысячами ног. Здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мехами. По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые – тяжелые железные двери за семью замками: за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленое, должно быть?) веками и развеянное теперь – по базарам, по отделам утилизации и коммунхоза. – Слабо горит свеча. Глеб отворяет первую дверь парадного и спрашивает через вторую:
– Кто там?
Ему не сразу отвечают. Становится очень тихо, и слышно, как в парке поет малиновка.
– А это кто? – это вы, Глеб Евграфович? – спрашивает из-за дверей женский голос.
– Я. Кто там?
– Это мы, я, Марфуша, да Егор Евграфович.
– Егорушка?
И Глеб быстро отпирает двери, чтобы увидеть родного своего старшего брата Егора.
…И за дверью идет пьяная июньская ночь…
Егор пьян. Он молчит. Красные его выпуклые глаза бессмысленны, но все же всегдашняя в них мягкость и сейчас смущение. Он в одной нижней рубашке, рваной и грязной, и босиком. Сзади Егора стоит Марфуша, – дальний отпрыск далеких дворовых крепостных. От Егора скверно пахнет – денатуратом и потом. Он неуверенно и смущенно отвечает на горячие поцелуи брата.
– Егорушка, милый!.. – говорит Глеб, обнимая брата.
Егор молчит.
– Что же ты молчишь? Не рад?
– Мне стыдно, брат, – говорит Егор трудно. – Мне очень стыдно, что так мы с тобою встретились. Брат, тебе неприятно меня целовать, не целуй! Я не осужу тебя, брат!..
Но Глеб без слов сильнее прижимает костлявую грудь Егора и целует его губы и лоб.
– Я рад тебя видеть, Егор!..
– Брат! Я украл у Натальи пальто и пропил его. Я украл!.. Я не хотел совсем приходить, но меня нашла Марфуша. Мне стыдно… Матушка спит?.. А Борис? Ненавижу его, презираю!.. Марфуша меня нашла… Я там с проституткою был…
Глеб, девственник, смущенно прерывает Егора.
– Егор, что ты? Нельзя так! – говорит он, как умеют говорить только девственники, и, извиняясь за брата, взглядывает виновато на Марфушу.
И Марфуша понимает его, обесчещенная девственница: уж очень измученно смотрят ее поблекшие глаза. Очень устало и поэтому хорошо говорит она:
– Ах, батюшка, Глеб Евграфович!.. Вот жакетку они взяли у Наталии Евграфовны!.. Как бы это, а?.. Я бы свою отдала, да не знаю, где выкупить… Вы бы поговорили с Натальей-то Евграфовной, чтобы барыне Арине Давыдовне не сказывала… А то Арина-то Да-выдовна – затерзат.
Глеб поспешно отвечает:
– Конечно, поговорю. Конечно…
– Глеб, матушка спит?
– Спит, да.
– Я ее боюсь, да!
Егор опирается о плечо брата. Мелкою, зябкою дрожью дрожит худое его тело. Горит свеча.
– Глеб, я был там… Там разврат!.. Ты меня сейчас остановил. Думаешь, я не понял? Ты – чистый человек. Но и я знаю, что такое чистота, – говорит Егор и тихо добавляет: – Сейчас бы поиграть…
У комнаты отца Егор останавливается на минутку, заглядывает и шепчет не то со смешком, не то покаянно:
– Не выдержал. Мерзости не выдержал! Вместе пили. Тогда я только пил, но был чистым. Понимаешь?
А у матерниной комнаты он ежится и бесшумно скользит мимо. В зале Глеб отдает ему свое платье. Горит свеча, освещая образ богоматери на мольберте, иконописное лицо Глеба и голое тело Егора. – Глеб – сознательно ли? – прячет богомать от Егора. Егор опирается о дверь, никнет бессильно головой, молчит, соображая, затем говорит тихо:
– Спасибо тебе, брат! Ты – брат!.. Борис – он не брат! Знаешь, он обесчестил Марфушу… Молчи, знай… Мы вместе пили. Потом он запер меня на крючок и пошел к Марфуше. Внизу. Я все слышал.
Снова молчит. Снова говорит:
– Поиграть бы сейчас на рояле… Но – спят!.. Спи, брат, святым сном! Я уже не могу!
И опять тишина. Опять тлеет папироса Глеба. За домом идет июнь, и в доме залегла зима.
По узкой лестнице, с выбитыми ступеньками и скрипучими перилами, Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широки и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, а на пустых ларях пудовые замки, и ключи под подушкой у матери.
– Егор Евграфович, я это… Провожу вас!.. – устало и любяще говорит Марфуша.
– Уйди, не могу простить! Иди к Борису. Иди.
– Егор Евграфович…
– Молчи!..
Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна, с низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике – лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно к двери. У двери стоит Марфуша.
– Марфа! – говорит трудно Егор. – Никто, кроме брата, не виноват. Но ты не знаешь. Ты не знаешь, что в мире есть закон, которого не прейдеши, и он велел быть чистым. Над землею величайшее очищение прошло – революция. Ты не знаешь, какая красота…