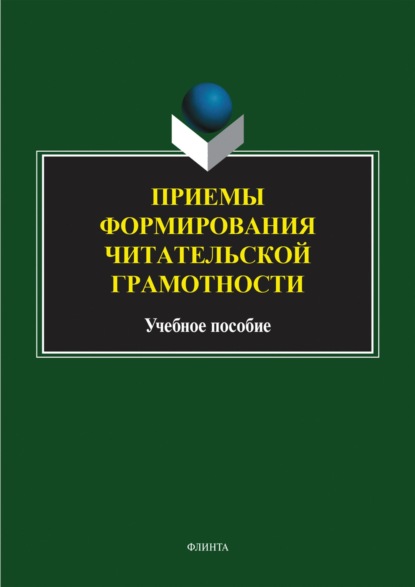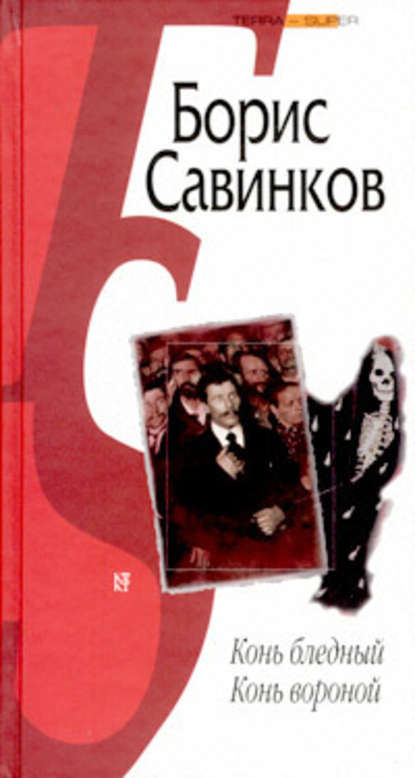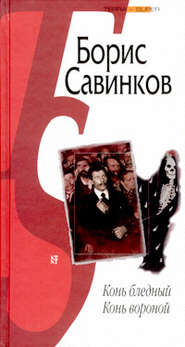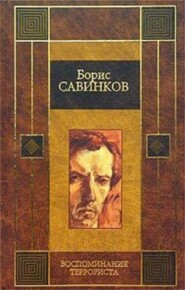По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Конь бледный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В резерве был. Две бомбы держал.
– Значит, ты не стрелял?
– Как нет? Стрелял.
Так ты расскажи.
Он машет рукой.
– Да что… Артиллерия пришла. Стали в нас из пушек палить.
– А вы?
– Ну и мы… Из пушек мы, говорю, палили. Сами на заводе делали. Маленькие, вот с этот стол, а бьют хорошо. Человек пятнадцать мы из них положили… Ну, тут скоро шум большой вышел. Потолок бомбой пробило, человек восемь наших взорвало.
– А ты что?
– Я? Что ж я? Я главнее в резерве был. В угле с бомбами находился … А потом приказ вышел.
– Какой приказ?
– От комитета приказ: уходить. Ну, мы видим: дела хоть закуривай. Подождали малое время, ушли.
– Куда ж вы ушли?
– В нижний этаж ушли. Там ловчее стрелять было.
Он говорит неохотно. Я жду.
– Да, – продолжает он, помолчав, – была тут одна… со мной солидарная… вроде будто жена.
– Ну?
Ну, ничего . . . Убили ее казаки.
За окном гаснет день.
13 марта.
Елена замужем. Она живет здесь, в Москве. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам, в свободные дни, я брожу по бульвару, вокруг ее дома. Пушится иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже 10 часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Я говорю себе: я не встретил ее вчера, я встречу ее сегодня.
Год назад я впервые увидел ее. Я весной был проездом в N. и утром ушел в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зеленой сетке ветвей стояла женщина.
Она не замечала меня. Но я уже знал: она слышит то, что я слышу. Это была Елена.
14 марта.
Я у себя в комнате. Наверху, надо мной, тихо звенит фортепьяно. Шаги тонут в мягком ковре.
Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Я не хочу знать будущего. Я стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе:
Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie,
Dormez, tout espoir,
Dormez, tout envie.
Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На «звезду утреннюю»? Я знаю: если мы убили вчера, то убьем и сегодня, неизбежно убьем и завтра. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод и сделалась кровь». Ну, а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь. С нею, – в могилу.
Je ne voit plus rien,
Je perds la memoire
Du mal et du bien,
О, la triste histoire!
Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода… И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя террора, для революции? Во имя крови, для крови?..
Je suis un berceau,
Qu'une main balance
Au creu x d'un caveau
Silence, silence…
17 марта.
Я не знаю, почему я иду в террор, но знаю, почему идут многие. Генрих убежден, что так нужно для победы социализма. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня . .. Но пусть Ваня скажет сам за себя.
Накануне он возил меня целый день по Москве. Я назначил ему свидание у Сухаревки, в скверном трактире.
Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит:
– Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе?
– О ком? – переспрашиваю я.
– О Христе? О Богочеловеке Христе? .. Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя во дворе я часто читаю Евангелие и мне кажется есть только два, всего два пути. Один, —все позволено. Понимаешь ли: все. И тогда – Смердяков. Если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос человек, то нет и любви, значит нет ничего … И другой путь, – путь Христов … Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, то и убить тогда можно. Ведь можно? Я говорю:
– Убить всегда можно.
– Нет, не всегда. Нет, – убить тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви, для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе, – опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве, ведь, не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь . . . И, ведь, знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест.
– Не смейся, – говорит он через минуту, – зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь: бред. Ведь, ты скажешь, ты скажешь: бред?
Я молчу.
– Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать ее? А ты будешь искать, все мы будем искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона, кровь для тебя – вода. Но слушай же меня, слушай: будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь: смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и крови. Но Христос, в милосердии своем, будет со мною.
Я пристально смотрю на него. Я говорю:
Так не убий. Уйди из террора.