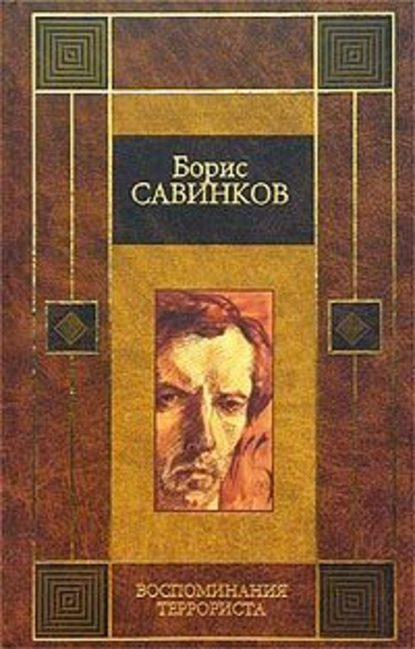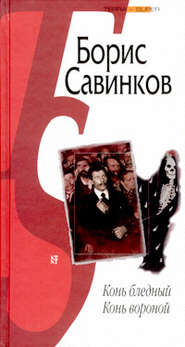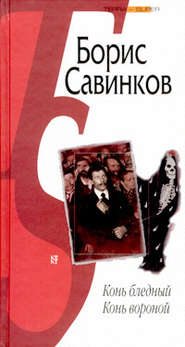По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь вороной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Из Бухчи.
– Есть в Бухче красные?
– А может, и есть…
– Много?
– А может, и много…
Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно – белые или красные, царь, или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой:
– Пошел вон, лесовик!..
15 ноября.
В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем. Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят: в их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:
– А почему у вас генералы?
– А почему с вами паны?
– А почему не платите за подводы?
Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да, в армии идет воровство… Меня выручил из беды Егоров. Он протискался сквозь толпу, огромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел, показывая корявый палец:
– Это что, огурец или палец? Палец… А я кто? Барин или мужик? Мужик… Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?…
– Перекрестись, что против панов.
Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.
– Бумагу написать можешь?
– Могу.
– А печатку приложить можешь?
– Могу.
Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревня дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановился в дверях.
– Нестоящее это дело, господин полковник.
– Почему?
– Да убегут мужичонки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно, за что воюем.
17 ноября.
В лесу и в поле, вечером, ночью и днем меня не покидает острая мысль – мысль об Ольге. Позвякивает стремя о стремя, Голубка просит поводьев, оступается и снова мягко шагает, а передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Она, смеясь, играет в горелки. Горелки… Какое наивное, навеки забытое слово… Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара?… Я не могу, я не смею думать. Огонь обжигает лицо, и мутится буйно в глазах.
18 ноября.
Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед. Выше, вверх по течению, широкая полынья – говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ощупью спускается с крутизны Голубка. У реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок.
Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселою вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами осторожно ведут некованых лошадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил о Жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, а Барабошка хохочет как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так прозрачен морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река, так бодры кони, и так приветливы люди, что я как мальчик радуюсь жизни. Жить – не думать, не знать, не помнить…
Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют «Олега».
19 ноября.
Федя подает мне бинокль:
– Вот они, господин полковник.
Я вижу: в сизой мгле колышатся тени. Их много. Они двигаются по Бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих?
– В атаку! В карьер!
Засвистел и резнул лицо воздух, напряглась и выбросилась вперед Голубка. Низко наклонясь к луке, я обнажил саблю. Справа и слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы – не щелканье ли бичей? Как во сне промелькнул Егоров. Взвизгнуло острое лезвие, что-то охнуло, и что-то упало… Я пришел в себя, когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что к далекому лесу по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь, бежит человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок. За ним тяжелым галопом скакал один из наших улан. Я узнал взводного Жеребцова. Я опять пустил Голубку в карьер.
Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий круг. Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник. Я взглянул на него, на этого русского, в шлеме с красной звездой мужика, и мною овладело незнакомое чувство. Я крикнул:
– Опусти руку!
Жеребцов злобно, всем телом, повернулся ко мне.
– Опусти! А ты… А ты, еловая голова, иди за мною…
Красноармеец сперва не понял. Потом поднял испуганные глаза. Потом, крестясь и путаясь, и снова крестясь, забормотал невнятной скороговоркой:
– Вот спасибо… Вот так спасибо… Вот так уж на самом деле спасибо…
20 ноября.
«Не убий!»… Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь… Теперь они мне кажутся ложью. «Не убий», но все убивают вокруг. Льется «клюквенный сок», затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек – от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, празднословили о заповедях завета?… Какой кощунственный балаган!
21 ноября.
Мы с боями идем вперед. Вчера мы два раза ходили в атаку. Ранен командир первого эскадрона, ранено человек десять улан, и убит трубач Барабошка. Он был тоже скобарь, земляк Егорова, заклятый враг коммунистов. Он всегда был доволен, даже когда нечего было есть, даже когда люди от усталости засыпали на седлах. «Тяжело, Барабошка?» – «Никак нет, нам, скопским, кап што…» В деревне у него остался отец, суровый и благочестивый крестьянин. Отец и приказал ему идти в добровольцы.
Мы похоронили Барабошку в лесу. Уланы наскоро пропели «вечную память» и поставили березовый крест. Когда стукнул последний ком глины, Федя, нахмурясь, сказал:
– Жил грешно и умер смешно.
– Почему смешно, Федя?
– Да ведь не от чужой, а от русской пули.