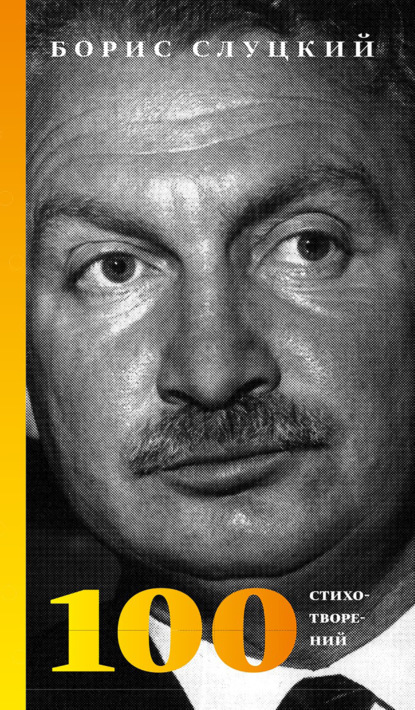По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
100 стихотворений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и плачет,
плачет,
плачет
горько,
что эта просьба не соблюдена.
А в двух шагах, в нетопленом углу,
лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний зал,
чтоб он
своею смертью черной
комбата светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют воины:
– Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
попробуй
перевоевать
по-своему!
Кёльнская яма
Нас было семьдесят тысяч пленных
в большом овраге с крутыми краями.
Лежим,
безмолвно и дерзновенно.
Мрем с голодухи
в Кёльнской яме.
Над краем оврага утоптана площадь —
до самого края спускается криво.
Раз в день
на площадь
выводят лошадь,
живую
сталкивают с обрыва.
Пока она свергается в яму,
пока ее делим на доли
неравно,
пока по конине молотим зубами, —
о бюргеры Кельна,
да будет вам срамно!
О граждане Кёльна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
когда, зеленее, чем медный пятак,
мы в Кёльнской яме
с голоду выли?
Собрав свои последние силы,
мы выскребли надпись на стенке отвесной,
короткую надпись над нашей могилой —
письмо
солдату страны Советской.
«Товарищ боец, остановись над нами,
над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
мы пали за родину в Кёльнской яме!»
Когда в подлецы вербовать нас хотели,
когда нам о хлебе кричали с оврага,
когда патефоны о женщинах пели,
партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу…»
Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
партком разрешает самоубийство слабым.
О вы, кто наши души живые
хотели купить за похлебку с кашей,
смотрите, как, мясо с ладони выев,
кончают жизнь товарищи наши!
Землю роем,
скребем ногтями,
стоном стонем
в Кёльнской яме,
но все остается – как было, как было! —
каша с вами, а души с нами.
Памятник
Дивизия лезла на гребень горы
по мерзлому,
мертвому,
мокрому
камню,
но вышло,
плачет,
плачет
горько,
что эта просьба не соблюдена.
А в двух шагах, в нетопленом углу,
лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний зал,
чтоб он
своею смертью черной
комбата светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют воины:
– Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
попробуй
перевоевать
по-своему!
Кёльнская яма
Нас было семьдесят тысяч пленных
в большом овраге с крутыми краями.
Лежим,
безмолвно и дерзновенно.
Мрем с голодухи
в Кёльнской яме.
Над краем оврага утоптана площадь —
до самого края спускается криво.
Раз в день
на площадь
выводят лошадь,
живую
сталкивают с обрыва.
Пока она свергается в яму,
пока ее делим на доли
неравно,
пока по конине молотим зубами, —
о бюргеры Кельна,
да будет вам срамно!
О граждане Кёльна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
когда, зеленее, чем медный пятак,
мы в Кёльнской яме
с голоду выли?
Собрав свои последние силы,
мы выскребли надпись на стенке отвесной,
короткую надпись над нашей могилой —
письмо
солдату страны Советской.
«Товарищ боец, остановись над нами,
над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
мы пали за родину в Кёльнской яме!»
Когда в подлецы вербовать нас хотели,
когда нам о хлебе кричали с оврага,
когда патефоны о женщинах пели,
партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу…»
Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
партком разрешает самоубийство слабым.
О вы, кто наши души живые
хотели купить за похлебку с кашей,
смотрите, как, мясо с ладони выев,
кончают жизнь товарищи наши!
Землю роем,
скребем ногтями,
стоном стонем
в Кёльнской яме,
но все остается – как было, как было! —
каша с вами, а души с нами.
Памятник
Дивизия лезла на гребень горы
по мерзлому,
мертвому,
мокрому
камню,
но вышло,