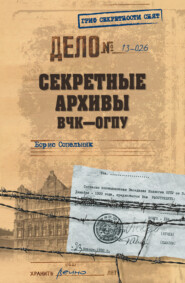По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Восхождение
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, моя любимая тетушка и моя дорогая мама, – обняла ее Мэри, – я все поняла. И вообще, – как-то по-девчоночьи хлюпнула она носом, – ты так много для меня сделала. Я буду вечно, я буду всегда тебя помнить. Я тебе обещаю, – залилась Мэри слезами, – что первую же дочку назову твоим именем, и будет у тебя маленькая, толстенькая внученька Полли. Ты согласна?
– Господи, боже правый, – залилась счастливыми слезами леди Херрд, – что ты такое говоришь? Толстенькая ли, худенькая ли, но моя кровиночка. Ведь моя же, моя! – в голос зашлась она. – Мы с твоей мамой родные сестры, а это значит, что мы с тобой, а значит, и с крохотулькой Полли одного роду-племени.
Когда в комнату вошел Борис, а за ним и Костин, то, ничего не понимая, от неожиданности оба прилипли к стене. Леди Херрд и ее племянница сидели на диване и, рыдая в голос, заливались горючими слезами. При этом они нежно обнимались, а их глаза сияли. Когда Костин открыл было рот, чтобы узнать, что случилось, обе плакальщицы так энергично замахали руками, что мужчины бочком, бочком и выскользнули за дверь.
– Ты что-нибудь понимаешь? – растерянно спросил Костин.
– Конечно, – хлопнул его по плечу Борис. – Тут и понимать нечего. Им хорошо, и плачут они от счастья. Ты когда-нибудь от счастья плакал?
– Нет, – коротко бросил Костин.
– Стало быть, ты никогда не был по-настоящему счастлив, – подвел итог Борис. – И я тебе в этом завидую, – сделал он неожиданный вывод, – так как это значит, что все у тебя впереди – и истинное счастье, и ликующая радость, и очищающие душу слезы.
Чего-чего, а слез Костин пролил немало. Это случилось на борту идущего в Канаду парохода, когда, уточнив у капитана, вышли ли они в нейтральные воды и, дрожа от нетерпения, он открыл перетянутый ремнями коричневый чемодан.
– Посмотрим, посмотрим, – приговаривал он, – чего насовал туда Борька. Тяжеленький, однако, чемоданчик-то, уж не книги ли в его утробе? Ба, да это патефон! – воскликнул он, доставая отливающее перламутром последнее достижение техники. – Мэри, – позвал он жену, – ты только посмотри, что презентовал нам барон!
– Патефон! – захлопала в ладоши Мэри. – И какой красивый! А пластинки есть? – заглянула она в чемодан.
– Есть, – развернул Валентин довольно плотную коробку. – Раз, два, три… пять штук! – воскликнул он.
– И что на них? – сгорала от любопытства Мэри. – Наверное, одни фокстроты? А танго есть?
Когда Валентин достал из конверта пластинку и прочитал, что на ней записано, то не сразу поверил своим глазам. Подумав, что ошибся, выхватил вторую, потом третью, четвертую, пятую.
– Ты знаешь, – проглотив откуда-то взявшийся комок, просипел он, – это не фокстроты.
– Неужели танго?! – прижала руки к сердцу Мэри. – Ох, это танго! Я обожаю танго.
– Вынужден тебя разочаровать, – почему-то с металлом в голосе бросил Валентин. – Это не танго. Это Шаляпин.
– Шаляпин?! – изумилась Мэри. – Великий Шаляпин?! И на всех пластинках – он?
– Да, – с проснувшейся гордостью ответил Валентин, – на всех пластинках великий русский певец Федор Иванович Шаляпин. Между прочим, я несколько раз слушал его в Мариинке – это такой театр в Петербурге, – пояснил он. – Какой это был Годунов! А Мефистофель, а Олоферн, а Дон Кихот! А как он пел романсы! Я уж не говорю о русских песнях, одна «Дубинушка» чего стоит!
– Ставь! Быстрее ставь первую попавшуюся пластинку, и будем слушать, – предвкушая наслаждение, забралась с ногами в кресло Мэри.
Пока слушали арии из опер, все шло нормально, и Валентин даже пытался что-то мурлыкать себе под нос. Но когда зазвучали романсы, в душе Костина что-то оборвалось, и он перестал что-либо понимать. Он не чувствовал ни рук, ни ног, он не знал, дышит ли, видит ли что-нибудь. Он стал туго натянутой струной, нет, не струной, а мембраной, звучащей в унисон с голосом Шаляпина:
Не искуша-а-й меня без ну-у-жды
Возвра-а-том нежности твое-ей:
Разочаро-о-ванно-ому чужды
Все обольщен-е-енья пре-ежних дней!
Каюта была довольно просторной, но в какой-то момент Валентину показалось, что рокочущему басу в этих стенах тесно, что они не выдержат могучих раскатов органоподобных рулад и начнут трескаться по швам. Валентин вскочил, рывком открыл иллюминатор – и, перекрывая крики чаек, шаляпинский бас вырвался на просторы Атлантики:
Уж я не верю увере-е-ньям,
Уж я не ве-е-рую в любо-овь
И не-е могу преда-а-ться вно-овь
Раз измени-и-ившим сновиде-е-е-ньям.
– Нет, не могу! – решительно снял пластинку Костин. – Всю душу выворачивает.
– А о чем он поет? – поинтересовалась Мэри. – Я же по-русски не понимаю. Чувствую, что о чем-то грустном, но о чем?
– О любви, моя дорогая. О давным-давно прошедшей любви и о том, что другой такой больше не будет.
– Это – не о нас, – шаловливо улыбнулась Мэри. – А что-нибудь о любви взаимной, красивой и возвышенной он поет?
– А как же! – выхватил Валентин новую пластинку и, не глядя, поставил на диск патефона.
Лучше бы он этого не делал! Как только зазвучали первые аккорды сопровождения, Валентин рухнул в кресло и, чуть ли не наяву увидев расплывшуюся в ухмылке довольную физиономию Скосырева, не в силах сдержать слезы, закрыл глаза руками. А всю каюту, да что там каюту, всю вселенную наполнил бархатисто-печальный голос Шаляпина:
Не-е пробужда-а-й воспо-о-минаний
Минувших дне-е-й, минувших дне-е-й,
Не возроди-и-ишь былых жела-а-а-ний
В душе-е мое-ей, в душ-е-е моей.
Валентин вспомнил, как они пели этот романс вместе с Борькой, как заливали нахлынувшую печаль отборным коньяком, как обещали друг другу, где бы они ни были, несмотря ни на что, воспоминания пробуждать и никогда не забывать своей горемычной России.
Пока Шаляпин просил не устремлять на него взор опасный и не увлекать мечтой любви, Валентин еще как-то держался, но безоговорочно сдался, когда зазвучало грустно-наставительное:
Одна-а-жды сча-а-стьте в жи-и-зни этой
Вкушаем мы-ы, вкушаем мы,
Святым огне-ем любви со-о-греты,
Оживлены-ы, ожи-и-влены.
«Однажды! – билась пульсирующая мысль в висок Костина. – Все бывает однажды! Одна истинная любовь, один верный друг, одна настоящая Родина. А что есть у меня, любовь? Любовь, можно сказать, есть. Это немало. Но ни друга, ни, тем более, Родины нет».
– Эх, жизнь моя, жестянка, – сквозь рыдания воскликнул он по-русски, – напиться бы сейчас… и набить кому-нибудь морду!
– Что-что? – встревоженно вскочила Мэри. – Ты что-что просил? Может, воды? Господи, да ты плачешь! – всплеснула она руками. – Почему? Неужели так расстроил Шаляпин? Да ну его, – сняла она пластинку, – я же говорила, что лучше бы барон подарил нам танго или, в крайнем случае, фокстроты.
– Глупышка ты, Мэри, – успокаивающе гладил ее по голове Костин, – фокстроты – это музыка для ног, а романсы – для души. Когда же поет Шаляпин – это… это, как целебные ванны, как какой-нибудь Баден-Баден: вся короста – с души долой, и ты становишься будто новорожденным и чистым, ну, как после исповеди и причастия.
Больше они романсы не слушали. Но Валентин, тщательно уложив в чемодан патефон и пластинки, пообещал открывать его почаще, и уж что-что, а Новый-то год обязательно встречать с Шаляпиным.
Тем временем помолодевшая на двадцать лет леди Херрд и ее элегантный спутник барон Скосырев решили наверстать упущенное и, если так можно выразиться, ударились в светскую жизнь. Их видели в самых дорогих ресторанах, на выставках модных художников, на громких премьерах в «Ковент-Гардене» и «Глобусе», на регатах в Хенли, на теннисных состязаниях в Уимблдоне, на аукционах «Кристис» и «Сотбис» и, уж конечно, на скачках в Аскоте, Ньюмаркете и Донкастере.
Леди Херрд в лошадях ничего не понимала, зато хорошо разбиралась в шляпках. А ведь во все времена главным для светских леди было не выиграть в тотализаторе, а продемонстрировать специально для этого случая изготовленную шляпку. Каких здесь только не было шляп – и в виде цветочной клумбы, и аэроплана, и линкора, и каких-то абстрактных нагромождений! Леди Херрд сразила светских львиц сделанными из цветов главными часами Лондона, причем с двигавшимися стрелками.
А вот барон Скосырев в лошадях разбирался и угадывал победителей чуть ли не каждого заезда. Деньги потекли рекой! Именно это позволило ему, не ставя в известность леди Херрд, нанять фотографа из «Дейли телеграф»: шустрый парнишка по имени Джозеф за приличное вознаграждение должен был по возможности незаметно следовать за бароном и, как только увидит барона рядом с известными всей Англии личностями, немедленно делать снимок. За публикацию в «Дейли телеграф» – отдельный гонорар.
Не прошло и недели, как в «Дейли телеграф» появилась серия фотографий министра иностранных дел Энтони Идена, пожимавшего руки посетителям Британского музея. Наиболее удачным был снимок, на котором Иден одной рукой приобнимает, а другой пожимает руку изящно одетому джентльмену с тросточкой под мышкой. Еще через неделю в этой же газете читатели увидели бывшего министра колоний, а потом министра финансов Уинстона Черчилля, который в эти годы занимался журналистикой, рядом с уже известным джентльменом, помогавшим будущему премьеру раскурить сигару.
Но вершиной успеха был фоторепортаж в «Санди Таймс», посвященный открытию сезона скачек на ипподроме в Аскоте. На переднем плане, неистово болея за любимую лошадь, размахивал своим неизменным цилиндром Невилл Чемберлен, тот самый Чемберлен, который в качестве премьер-министра Великобритании в скором времени подпишет с Гитлером печально известное Мюнхенское соглашение. За спиной Чемберлена горделиво улыбалась платиновая блондинка с цветочными часами на голове, а чуть правее, в унисон с премьер-министром, размахивал шляпой все тот же аристократично выглядящий джентльмен.
Надо ли говорить, что Борис скупил чуть ли не весь тираж этих газет, мудро решив, что со временем они станут хорошей визитной карточкой. Щедро расплатившись с фотографом, Борис начал было собираться на Хенлейскую гребную регату, где должны были выйти на старт традиционно соперничающие «восьмерки» из Оксфорда и Кембриджа, как вдруг Джозеф, хитро прищурившись, но как бы между прочим, спросил: