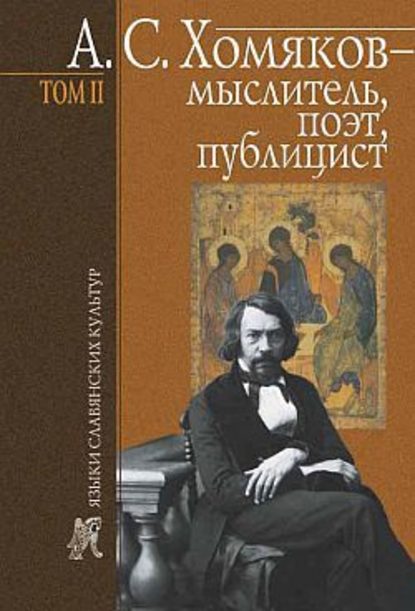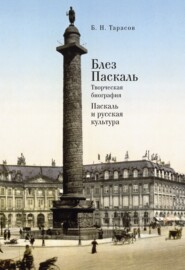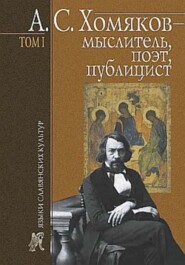По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Правомернее говорить о конгениальности скрытого идейного мира Гегеля и Хомякова, но можно предположить и другое: русский мыслитель незаметно для себя и своих исследователей наполняет «бескровную» гегелевскую диалектику глубинным животворным содержанием, благодаря чему и формирует естественную соборную феноменологию как систему, в которой интегрируется иррациональный духовный универсализм. Бытие в себе родоначальник соборной феноменологии называет волящим (всецелым) разумом, проявляющимся для человека в качестве Божьей благодати, которую Хомяков именует невидимой соборностью (или Церковью). Отдельный человек сам по себе не может приобщиться к соборности. Ее обретает только совокупность глубинно верующих людей, образующих видимую Церковь, хотя по сути она также является невидимой. То есть соборная вера – это подлинное существование человека, обретенное им в «церковной ограде». Данному бытию присуще живознание волящего разума и его проявлений. Живознание выступает первой ступенью познания, а рассудок – второй. Рассудок познает законы действительности без самой действительности. Синтез живознания и рассудка как третья ступень познания обеспечивает человеку осознанное понимание Бытия в себе, но в той мере, в какой оно было присуще на уровне иррационального живознания.
Хомяковское учение о соборности – это провиденческая парадигма возрождения «первоначального братства». Поскольку народы не восприняли эту парадигму, то и не сумели хотя бы в какой-то мере нейтрализовать усиливающееся влияние кушитства, в котором выражается «крайнее искажение человеческой природы»[18 - Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 279.]. А. С. Хомяков стихийно предвидел формирующуюся сегодня ситуацию, когда по своему внутреннему смыслу противостоят друг другу не религиозность и секулярность, а разнообразная по эмпирическому проявлению и единая по сути соборность двуполярному варварству: религиозно-националистическому фанатизму и индифферентному космополитизму как кушитским разновидностям религии и атеизма. Сейчас кушитский тип веры почти беспредельно господствует в мире. В этих условиях народам навязывается новый «мировой порядок», с чем смирилось европейское и постсоветское население, пораженное бациллой индифферентизма. Наступает утилитарно-прагматическая глобализация, формируется единая мировая система экономики, финансов и информации, в которой человек превращается в «нумер» (Хомяков), где теоретики, идеологи и политики выполняют функции управленческих автоматов, а остальные люди безропотно реализуют любые волевые замыслы централизованной системы управления. Так или иначе, но глобализация объективно призвана окончательно уничтожить соборную природу человека и возникшие на ее основе глубинный допросветительский гуманизм и соответствующий ему уровень культуры.
Надо признать, что глобалистской миссии не суждено осуществиться. Программа спасения «золотого миллиарда», как и гитлеровская авантюра, не только анти-человечна, но и базируется на искусственной вере в «формулу» (Хомяков). Естественная кушитская вера, согласно учению А. С. Хомякова, постоянно поглощает соборность и доминирует в социальном процессе. Но крайние формы кушитства, представляющие собой совершенно беспочвенную рационализированную веру, не имеют долговременной жизненной перспективы и обречены на гибель.
В России и мире сегодня распространено достаточно устойчивое мнение, что Россия долго и бесперспективно искала самобытный путь развития. В противовес этому Хомяков аналитически раскрыл реальную ситуацию. Он выявил, что русский народ еще до крещения Руси интегрировал в себе потенциальную соборную ментальность, что и обусловило в России колоритный, поистине жизнетворный вариант именно общечеловеческой эволюции. Эта жизнетворность сопротивляется любому формальному управлению. Что касается Запада, то именно он выработал католицизм – отчужденную веру, базирующуюся не на архетипах человечности, а на формальных логических постулатах.
Социетарные достижения западной цивилизации потрясают воображение, но именно эта цивилизация губительно отклонилась от соборной эволюции человечества. Главный идеолог славянофильства предчувствует не только гибель крайних форм, но и всего западного жизнеустройства. Однако не погибнут реальные достижения европейской культуры. Хомяков проникновенно говорит о том, что учение И. Канта о практическом (нравственном) разуме предопределило первоосновы всякой будущей философии, способной постигать Бытие в себе. В свою очередь Гегель открыл универсальные законы последнего. Несмотря на то, что эти законы выражены без самого Бытия, Гегелю будут благодарны все будущие умы, «укрепленные» пониманием этих законов.
В соборной эволюции человечества можно выделить три основных этапа: синкретическо-мифологический, авторитарно-религиозный и рефлексивно-мирской. Первые два этапа А. С. Хомяков возрождает в соборной феноменологии, а по отношению к третьему выступает его идейным и идеологическим родоначальником. Хомяковский соборный феноменологизм является перспективной соборной мифологией, в которой изначальный синкретизм внерелигиозного и одновременно сакрального Духа не преодолевается, а возводится на уровень рефлексии.
Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, а вслед за ними и другие исследователи «сожалеют», что в учении Хомякова бытовая сторона преобладает над религиозной, а европейский общекультурный рационализм объявляется рассудочным, тогда как немецкие философы выделяли и определяли рассудок и разум в качестве естественных структур человеческого познания[19 - См.: Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 154 и др.; Зеньковский В. В. История русской философии. М., 1994. Т. 1, ч. 1. С. 206–207.]. Исследователи утверждают также, что сам Хомяков, несмотря на «безмерную» критику европейского рационализма, в своих суждениях был рационалистом. Именно данные упреки косвенно подтверждают факт возвышения провиденциального жизнетворчества А. С. Хомякова над сугубо религиозным и отчужденным рационалистическим творчеством, над сугубо религиозной и секулярной формами выражения соборности.
А. С. Хомяков в отличие от Вл. Соловьева видит целостность Духа не только в религиозной, но и в мирской ментальности, а по сравнению с А. И. Герценом – не только в «стихиях жизни», но и в сакральных архетипах этих стихий, а также освобождает рационалистическую философию Гегеля от отчужденности и на уровне «утонченного рационализма» (П. А. Флоренский) рефлексирует соборное существование человека во всех его проявлениях и жизненный процесс в целом. Одним словом, Хомяков критикует исторически объективированные формы религии, материализма и рационализма с позиций и соборно-религиозной, и соборно-секулярной, и соборно-рационалистической веры, но прежде всего с позиций логически не уловимой и словесно не фиксируемой универсальной соборности. Именно благодаря этому его анализ мистических, житейских и догматических феноменов удивительно свободен от мистики, прагматизма и логической отчужденности. Хомяков был единственным для своего времени мыслителем, который провидчески трактовал католицизм как мистический рационализм, лишившийся изначального целостного Духа и превратившийся из естественной веры даже не в кушитство, а в формализованное умозрение, не способное проникать в глубины человеческого существования. Тем самым Запад, согласно его позиции, лишился жизненной первоосновы и как цивилизация обречен на гибель.
Возрожденная и осмысленная А. С. Хомяковым на новом интеллектуальном уровне православная форма соборности вариативно проявилась в русской религиозной философии, а его мирская рефлексия целостного Духа – в «русском социализме». Инициированное родоначальником славянофильства феноменологическое понимание соборности, возвышающееся над религиозным и мирским ее восприятием, стихийно было востребовано всеми направлениями русской философии и составило основное их смысловое и ценностное содержание. Именно дальнейшую вариативную разработку соборной феноменологии правомерно считать фундаментальной перспективой мировой философии и базирующейся на ней идеологии антиглобализма.
Для преодоления кушитской глобализации и возрождения в человеке соборного начала необходимы кардинальные перемены в умонастроениях людей. Этим переменам будет способствовать выявление вечностного смысла в жизнетворчестве А. С. Хомякова. Русский мыслитель предвосхитил и спонтанно воссоздал максимально притягательную, но еще не понятую мировым сообществом соборную феноменологию – целостную веру, философию, идеологию, мировоззрение, – которая, на мой взгляд, имеет все шансы стать основным определяющим фактором эволюции человечества в третьем тысячелетии, если человечество как таковое самосохранится.
В. Меденица
Логос, слово и соборность
I
В 1926 году, занимаясь переводом на сербский язык сочинения Хомякова «Церковь одна», преп. Юстин Попович писал: «Хомяков первым в новое время освободил православную мысль от схоластицизма и рационализма, выведя ее на пути, проложенные святоотеческой философией, и потому Самарин был прав, назвав его учителем Церкви». Такая высокая оценка, данная Хомякову одним из выдающихся церковных мыслителей и подвижников нашего времени, могла бы еще тогда, при беспрепятственном и свободном развитии сербской богословской и философской мысли, широко открыть двери исследованиям русской религиозной философии, одним из родоначальников которой является Хомяков.
В 1932 году доктор Душан Стоянович опубликовал книгу под названием «Русские проблемы философии и религии XIX века», содержавшую очерки о П. Чаадаеве, И. Киреевском, А. Хомякове и К. Леонтьеве.
Русскую религиозно-философскую мысль в целом объединяет дух, в котором она проявлялась, дух свободы и спонтанности, – писал Д. Стоянович. – Она – свободно мыслящая. Она – творение мирян. Она свободна от манеры и метода <…> теологов. Она спонтанно церковная и духом свободного познания связана с церковью, в то время как <…> в исторических своих перспективах она намного больше опирается на народный религиозный дух, нежели на церковные религиозные традиции. Она не стремилась уходить как можно дальше от церкви, несмотря на то, что религиозные проблемы ставила гораздо шире. Она не является церковной, однако дух церкви ей не чужд. Она была произведением свободных умов, которые в поисках духовной истины шли к церкви, а не наоборот. Поэтому она была спонтанной и автохтонной, не будучи при этом протестантской.
Русская мысль, подчеркивал автор далее, со своим
познанием преимущества религиозного духа и своим пониманием этого духа, для нас может иметь и более современное, а не только историческое значение… Увы, мы никак еще не показали, что в ориентации нашей страны религиозный дух принимает какое-либо участие. Наше культурное познание было весьма профанным… Однако историческая наша судьба ставила перед нами совсем новые проблемы и при их решении, нам кажется, русская религиозная мысль может оказаться полезной, либо как путеводный маяк, либо как предупреждение.
Слова Юстина Поповича и Душана Стояновича могли стать отправными пунктами для всеобъемлющей рецепции русской религиозной философии у сербов и даже для создания нашей оригинальной философской мысли, которая никак не могла возникнуть, черпая исключительно западные источники, если бы не случился роковой разрыв, оттолкнувший нас на многие десятилетия от этих истоков.
Только в 1980 году благодаря Николе Милошевичу, который выпустил десятитомное издание «Достоевский как мыслитель», куда вошла и публицистика Достоевского, и работы Лосского, Бердяева, Мережковского, Шестова и Розанова о Достоевском, мы вновь соприкоснулись с русской религиозно-философской мыслью, узнав о том, о чем люди моего поколения вообще не догадывались, – о существовании целого «незнакомого мыслящего континента», по выражению Николы Милошевича.
Серьезные научные работы на тему «Хомяков и славянофильство» появились в Сербии только в последние годы ХХ века. О Хомякове и классическом славянофильстве неоднократно писал Милан Суботич, старший научный сотрудник белградского Института философии и общественной теории. Уже в своей книге о сербском либерализме Суботич одну главу посвятил рассмотрению влияния русского славянофильства на сербских либералов и, в частности, интерпретации «Послания к сербам» («К сербам. Послание из Москвы», 1860)[20 - Subotich M. Sricanje slobode («Читая свободу по складам»). Beograd, 1992. S. 109–157.]. Кандидатская диссертация Суботича была полностью посвящена анализу политических и социальных идей классического славянофильства. Выдвигая тезис о том, что восстановление славянофильских идей является ответом на кризис посткоммунистического идентитета России, автор подчеркивает важность академического изучения и ознакомления с этой традицией в Сербии. В 2001 году Суботич опубликовал в Белграде книгу «Комментаторы русской идеи», в которой изложил собственное понимание философских взглядов Чаадаева, Киреевского, Хомякова, Герцена, Данилевского и Леонтьева. В очерках об этих мыслителях автор рассматривает «русскую идею» как комплекс философских, социальных и политических взглядов, говорит об особенностях русского менталитета и исторического развития России. Из трех возможных способов тематизации «русской идеи» (традиционно-философская, историческая и политико-логическая), Суботич выбирает вторую, делая свою книгу своего рода приложением к истории «русской идеи». В рамках такого подхода концепт соборности Хомякова подробно рассматривается им в философском, богословском и социальном планах[21 - Subotich M. Tumaci ruske ideje. Beograd, 1991. S. 110–160.]. На философском уровне «соборность определяется критикой нововекового рационализма; на богословском уровне – объяснением истинной Церкви, а на социальном – идеалом древнеславянской общественной жизни, сохранившемся в институте сельской общины».
Если интерес Суботича к славянофильству прежде всего научный, теоретическо-исторический, то внимание к русской философии Бранимира Кулянина (защитившего докторскую диссертацию «Восточный вопрос в русской философии» на философском факультете в городе Баня Лука (Сербская Республика)) вызвано стремлением очертить, опираясь на традицию русской религиозной мысли, основные контуры сербской социально-политической модели, наметить пути возможного решения проблемы защиты и сохранения сербской национальной идентичности в сегодняшних условиях «конфликта цивилизаций», в котором одной из самых горячих точек являются как раз Балканы. В противоположность «объективистскому» подходу Суботича подход Кулянина можно считать «субъективистским», в его основе лежит экзистенциально-исторический и практический интерес.
Взгляды Кулянина во многом близки моим собственным взглядам на специфически русский теоретическо-познавательный вопрос, высказанный мною в кратком очерке «О задачах так называемых духовных наук», в котором поднимается вопрос о смысле знания и решается он именно в духе русской религиозной философии. Знание имеет смысл только как живое знание, поддерживающее, питающее, развивающее жизнь в целом и формирующее то, что является высшим и главным в жизни, что определяет личность. Задача духовного знания и духовных наук, их первый и последний смысл – формирование и развитие человека как личности. А потому историк, исследующий национальную историю, будучи всем своим существом – национально, семейно и лично – связан с этой историей, не может заниматься лишь простым описанием событий национальной истории, не может исследовать только причины их и последствия, не может быть, так сказать, только ретроспективным исследователем. К своему предмету он должен подходить максимально заинтересованно, любить свой предмет, видеть себя в нем, и не как отдельный, обособленный индивид, а как цельная личность, рожденная в этой истории. При этом веяния прошлого не только должны через посредство настоящего превратиться в установки будущего, но и наоборот, смысл будущего, как зарожденного движения в настоящем, должен освещать и регулировать и само прошлое: история не должна быть только ретроспективной, она должна быть и проективной! В сущности, христиански осмысленная историография – а желательной является только такая историография – должна быть ретроспективно-проективной. Поэтому Иисус Христос – центр истории, центр мирового движения, собирающего в себе (Логос, Слово – Церковь) начало и конец, прошлое и будущее, живых и мертвых.
Итак, знание является результатом процесса, который, как сказал бы Бердяев, осуществляется в самом бытии. Здесь сова должна вылететь под самое утро, на заре, и во время полета следить за ходом исторических событий и экзистенциальных происшествий своим взглядом в две ночи: одну, оставшуюся за нами, и вторую, которая перед нами. То, в чем рождается знание, – это связь любви, обогащающая обе стороны процесса познания. Любимый предмет прекрасен, даже когда он, с точки зрения холодного рассудка, и некрасив. Это так потому, что сердце видит не его ограничения, его искаженность, вызванную скованностью цепями здешнего бытия, цепями социально-психологической и исторической необходимости (все цепи спадают перед этим любовным взглядом), а его идею, его лучшую возможность – сердце видит любимый предмет таким, каким он будет в вечности.
Субъективность здесь не подвержена никакому субъективизму и релятивизму, никакому романтизму, более того, она является определенным соборным сознанием, открытостью всем принимающим участие в церковном духе, к живым и умершим, потому что Дух живет и дышит не там только, где он хочет, но и когда захочет, а церковь является не только церковью живых, но и умерших. Не трудно прийти к выводу, какой линии в русской религиозной философии следует эта гносеологическая позиция. От живого знания до созерцания сердцем, до последней возможности раскрытия полной истины предмета в полноте субъекта, внутри самой жизни, суть которой открывается во взирании по ту сторону любых пространственно-временных ограничений. Только в созерцании сердцем утверждается субъективитет: чувствительность, воля и мышление, сопряженные в целостном, теопоэтическом разуме; только в сердечном созерцании предмет открывается человеку в полной своей очевидности. Можно сказать, что именно Иван Ильин в своей работе «Путь к очевидности» (глава «О сердечном созерцании») высказал последнюю формулу и самым подходящим образом назвал тот гносеологический субъективитет, поисками которого занималась и который, по сути, исследовала вся русская религиозная философия как органическая, соборная мысль sui generis, начиная с Хомякова и Киреевского, через Федорова и Соловьева, до Бердяева и Карсавина.
Приведу выдержку из докторской диссертации Бранимира Кулянина: здесь конкретно говорится о задаче историографа, но, по-моему, сказанное имеет отношение к общественной теории и к философствованию вообще:
Бесплодная, объективная историография всегда ошибается не менее, чем в двух направлениях. Она предоставляет минувшие события дурной классификации, вставляя их в исторические рамки в соответствии с требованиями научной точности, объективности, критичности и т. д. и оставляет современников без опоры, без той необходимой помощи, которая каждому поколению хотя бы раз в жизни становится необходимой. Разумные нации живут с опытом предков; опытом всегда историческим, воплощенным во всех формах духовного и общественного бытия, начиная с церкви и кончая государством и образованием. Неразумные же нации живут в забвении опыта собственных предков и начал, проявляющих себя в этом опыте. Не осознавая их, они в кризисные исторические моменты, когда стоят уже буквально над пропастью, пытаются выйти из дремучей повседневности и организоваться вокруг чего-то, что невозможно создать на скорую руку, а потому их обращение к серьезной национальной жизни часто бывает стихийным, если вообще появляется желание двигаться к каким бы то ни было национальным началам. И тогда форма занимает место содержания. Отучившись от преданий, от традиции, от прочного нравственного, самоотверженного, органичного существования нации, они могут использовать национальную идею лишь в качестве удобного лозунга, из которого выхолощено подлинное содержание слов, они активно опираются на национальную символику, но это лишь показуха, тешащая их гордое самолюбие, и в конце концов быстро погибают вместе со своим кратковременным восторгом, в бесплодных попытках этим незаряженным ружьем победить врагов, стреляющих из тяжелых орудий своего, заветами и духом предков питаемого и развивающегося национального бытия.
Было бы несправедливо, если бы я не упомянул и тех, кто своими переводами способствовал ознакомлению более широких слоев нашей культурной общественности со славянофильством и Хомяковым. Это Милош Добрич, который перевел несколько богословских работ Хомякова, и Мирко Джоджевич, который перевел книгу Николая Бердяева о Хомякове (а также более тридцати книг Шестова, Бердяева, Федотова, Соловьева, Франка…).
II
Соборность, писал Хомяков, есть «свободное и органическое единство, принципом которого является Божия благодать взаимной любви».
Церковь соборна, потому что представляет собор верующих, объединенных в одном духе, без ограничения места, времени (курсив мой. – В. М.), общественного положения и национальности ее членов, для нее нет греков и варваров, нет рабовладельцев и рабов.
Слово «соборность», «утверждаю смело <…> содержит в себе целое исповедание веры».
Соборность – это принцип, которым множество верующих объединяется в одну общность – «Христову церковь на земле и небе, во времени и вечности». Он выражается в Соборе – Храме Божием при литургии и молитве.
Соборность здесь положительно определяется сжатыми, сосредоточенными высказываниями. Открыто, ясно они говорят целостному духу, личности, сокровенно говорят рассудку, пониманию и требуют рассмотрения, анализа. Что же в них главное? Единство во множестве. Почва, необработанная и здоровая, питающая мысль Хомякова, – это органическое единство, которое много древнее аналитического рассудка или же, антитетического, диалектического разума. В свое время именно так зародилась греческая философия, с Гераклитом, отдаленным от Хомякова многими веками, тысячелетиями. «Если послушаете не меня, а Логос, мудро согласитесь, что все – одно». Так говорит Гераклит в своем тоже сосредоточенном, сжатом высказывании. На первый взгляд, что может быть общего между Гераклитом и Хомяковым, между гераклитовским Логосом, говорящим что все одно, и хомяковской соборностью – свободным единством в любви, вытекающим из другой, восточно-христианской традиции? Но я убежден, что Спасителя предвещали не только ветхозаветные пророки (вся тварь жаждала избавления, все народы во все времена) и не только божественный Платон, а также и Гераклит Ефесский. Думаю, что и пророки, и божественный Платон, и Гераклит Ефесский – все это радиусы к средоточию (центру) истории, радиусы, идущие сверху, из тьмы прошлого, от тех, кто хочет слышать и жить в Логосе, в самой Истине с большой буквы.
Об этом средоточии (центре) жизни, о Логосе-Слове говорит Иоанн: «В начале был Логос, и Логос был у Бога. И Логос был Бог». В начале было Слово. Логос – это Богочеловек, объявленный и исторически существующий. Земная жизнь Иисуса Христа – воплощение и вочеловечение Логоса, открывшегося людям, ставшего откровением. Логос – Слово Божие, увиденное и услышанное людьми, он – благовестие, он – второе лицо Троицы, Логос теперь Личность.
Основой, осью Церкви, ее фундаментом и вершиной, ее вертикалью, вокруг которой сосредотачивается и собирается все, является Иисус Христос, Сын Божий, тот Божественный Логос, который питает членов Церкви: «Я есмь хлеб жизни» (Ио. 6, 48); «Я – хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ио. 6, 51); «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; Ибо Плоть Моя истинно есть пища и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне и Я в нем» (Ио. 6, 54–56); «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною» (Ио. 6, 57); «Дух животворит, плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ио. 6, 63).
В этих словах речь идет о Евхаристии, о Церкви, о Троице, Вечном Соборе, которому может быть причастно каждое существо, но «многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать» (Ио. 6, 60) – и ушли от Спасителя. Остались апостолы распространять Церковь, распространять слово Истины, которую можно есть и пить и которая дарует жизнь вечную. Они остались в любви и вере, в свободном единстве вокруг оси Церкви, остальные отдалились, пошли прочь от Церкви, несобранные, несоборные, те, что вопреки близости к самому Логосу, к началу единства, повернулись к нему спиной. Они предпочли слушать себя, свое мнение, опираться на собственное мышление, боготворить своих идолов вместо божественного Слова, вместо Логоса. Логос – это то, что собирает, что духом любви насыщает собранных, а собственное мнение (идолы, которые его формируют) – то, что разбирает, рассуждает (рассудок = разум, разбор (серб.), ratio). Логос – это Церковь, единая и соборная, единая во множестве, нерушимый собор живых и умерших, по образу Троицы. Такая Церковь Троицы, Вечного Собора, была открыта в Евангелии Иоанна. Логос Иоанна есть богочеловеческая манифестация этого Собора, этой соборности, он Церковь[22 - Церковь Христова одновременно и дана, и задана, она и факт, и проект, она во времени и в вечности. Она дана всегда, и все вестники ей принадлежат, и библейские пророки, и древнегреческие мудрецы-досократики. Из центра Логоса, из Слова Иоанна, она освещает и прошлое, и будущее. Церковь – это Церковь всех: и живых, и умерших. Соборное единство всех в любви, которое формирует истинное сознание. Такое соборное сознание имел в виду Хомяков когда написал: «Поэтому поучение обращается не к одному разуму <…>, а обращается к уму в его целости и действует через все многообразие его, составляющее в общей совокупности живое единство. Поучение совершается не одним Писанием, не изустным толкованием, не символом <…>, не проповедью, не изучением богословия и не делами любви, но всеми этими проявлениями вместе». Он настаивает именно на той целостности человеческого существа, которая единственная может воспринять и зачерпнуть Логос. А если Логос у Гераклита не означает, как полагал Хайдеггер, ни закон, ни слово, ни мышление, ни разум, ни ум, тогда его и сам Гераклит может зачерпнуть только чем-то другим, тогда его и у Гераклита можно зачерпнуть только чем-то другим, только целостной личностью, все силы которой устремлены к соборности.].
Итак, следуя нашей аналогии, теперь можем сказать, что Логос Иоанна содержит в себе и доклассическое значение Логоса, обнаруженное Хайдеггером в гераклитовом фрагменте[23 - В работе «Введение в метафизику» Хайдеггер старается вернуться к первоисточнику и на нем основать новый принцип мышления. Он считает, что Логос в начале еще не означает разум, не означает мышление, не означает даже речь. Логос уже в неразличении с Физис прежде всего означает «собранность того, что есть», «постоянное присутствие». «При этом то, что собирается, одновременно выделяется (разбирается)». Хайдеггер пытается, и кажется, удачно, найти в гераклитовом Логосе значение, идущее глубже значения разума, мышления, речи, слова, чтобы таким образом, как он считает, сдвинуть греков от стояния у дверей абсолютной истины, т. е. христианства, впрочем, такого, как он его понимает, и от того пути, по которому потом пошла западноевропейская метафизика. Ему хотелось, чтобы целый мир, бездна, отделял гераклитово понимание Логоса от его христианского понимания. «Логос здесь не означает ни смысл, ни слово, ни учение и даже не “смысл какого-то учения”, а постоянную, изначально собирающую собранность, совокупность». Следуя далее за Гераклитом и его высказыванием «Ибо от того, с чем они чаще всего общаются, от этого логоса, они поворачиваются, а то, с чем повседневно сталкиваются, им кажется странным», Хайдеггер пишет: «Логос – это то, при чем люди постоянно присутствуют, но от чего они все-таки отстоят далеко, и те, которые присутствуя отсутствуют, и те, которые не досягают. Гераклит написал: все ведут себя так, как будто у них есть собственный ум, а мудрее послушать Логос. И согласиться, что все одно». Завершающее хайдеггеровское сосредоточенное высказывание: «Логос – это постоянное собирание, в себе заключенная собранность того, что есть, т. е. – бытия». Это, по Хайдеггеру, первичное значение слов Логос и Физис в своем пока-не-различении, в слитности и единстве.Хайдеггер был знаком с католицизмом, протестантизмом, он знал Евангелие, но он еще не знал Церкви, он еще не знал церковного сознания, которое в Евангелии от Иоанна видит Церковь, он еще не знал, что на востоке Европы созидается новое начало, наследующее святоотеческое богословие и многовековое православие, соборный опыт, он не знал соборности как принципа познания в свободном единстве в любви, не знал о свете, озаряющем и прошлое, и будущее, исходящем от «света во тьме», от «света», освещающего все понятия, все значения и их преображающего. Он не знал о Логосе Иоанна, не знал о Кирилло-Мефодиевском Слове, идущем «передо мною и за мною», собирающем в себе множество тех, которые, условлены, у-соборены, все пространственно-временные измерения, все, что живет и что умерло, все, что было раньше и будет потом. Ведь Слово – это не только немецкое Wort (или наше «речь», как указано в переводе Нового Завета Вука Караджича – здесь деградирующий перевод ключевого Логоса, сравните его с Кирилло-Мефодиевским Словом в полном его богатстве значений), это не ветхозаветная заповедь, не благовестник-посредник, оно и есть само благовещение в единстве Отца и Сына и Духа Святого, оно есть Троица, Вечный Собор, оно не является каким-то божественным учителем наподобие Заратустры или Будды, не учителем истины, а самой Истиной. Оно есть Физис-Логос, сама вертикально стоящая, правящая собранная соборность в ее распространении по этой земле, во все разрастающемся господстве (если выражаться хайдеггеровскими терминами), то, что вечно бывает со всеми и для всех, с живущими и умершими, чающими «воскресения мертвых и жизни будущего века».Логос Гераклита, предвещающий Логос Иоанна, – это Логос универсальный, общий для всех, он относится ко всем, он божественен, но он еще не личностный, а только субстанциальный мировой Логос, только Космо-Логос, и потому все остальное у Гераклита замкнуто кругами огня, мерой воспламеняющегося и мерой угасающего, замкнутого кругом космической Справедливости, внутри которого все вертится и выхода нет… Но выход есть – это Логос-Личность, Логос-Слово, Логос-Церковь, Логос-Соборность…]. Логос Иоанна и есть «собирающая собранность», представленная теперь как содержание, качество – у нее есть плоть, кровь – как полнота. Он – Личность, соборная и неотделимая от Отца и Духа, Личность неслиянная, Второе лицо Троицы, Он – Церковь. Церковь здесь есть личностная «собирающая собранность», она – хомяковская соборность: одно в ней есть все, и все есть одно – она есть свободное единство в любви.
Хомяковское определение Церкви также приходит нам свыше, после Откровения, оно есть раскрытие и усвоение Откровения, оно для нас является спасающим, воскрешающим обогащением того, что в еще очень общем и абстрактном предсказании содержится в гераклитовом высказывании. Гераклита, который так говорит, мы могли бы полностью включить в хомяковскую идею соборности, в соловьевскую философию всеединства. Предвестие здесь получает полноту выражения.
Два сосредоточенных высказывания – Гераклита и Хомякова, – находящиеся на одинаковом расстоянии (если в данном случае вообще можно говорить о каком-то расстоянии) от того, что является средоточием всех пространств и всех времен, средоточием каждого истинно разумного и духовного усилия всякого, кто любит истину, несмотря на место, время, общественный статус и национальную принадлежность, – от Логоса, Слова, Спасителя. В это средоточие эти два сосредоточенных высказывания и должны в конечном счете вернуться.
* * *
Вновь обратимся к сосредоточенному высказыванию Гераклита Ефесского.
Что нам сказано здесь? «Если послушаете…» – какое-то слушание, послушание… «не меня…» – не какое-то субъективное мнение, какое-то болтание, «а Логос» – Логос здесь говорит, а не я, я – только медиум, проводник, или же кто-то, кто старается у-логосить себя, уподобить себя Логосу, кто-то становящийся целостным разумом, потому что послушен Логосу, становится мудрее и не болтает, кто собирает себя в себе и принимает Логос как саму собранность, как то, что обеспечивает внутреннюю со-средо-точенность (со-бранность) и обращение к другим не в болтании, а в сосредоточенном, концентрированном высказывании. «…Мудро (толково) согласится…». Мудро, толково – не разумно, рационально, а именно мудро, как после какого-то сосредоточенного (концентрированного) по-слушания, после жизни, прошедшей путь внутреннего сосредотачивания, собирания всех сил, которые пребывают в мудрости (уме), в согласии с Логосом. Как сказал Гераклит, «многознание не учит мудрости, ибо научило бы Пифагора…» и остальных. То есть «согласиться» здесь означает отказаться от всякого болтания, от своего собственного маленького (раз)ума, от всякого расчленения, от триумфа человеческого рассудка, этой малой части целостного человеческого существа, узурпировавшей место целого, задушившей его, рассудка, выступающего без сердца, без чувства, без воли, без морали, без вкуса. «Согласиться» значит отказаться от себя, от подчинения обособленному, расчленяющему рассудку. «Согласиться» значит принять, что только умудренные, целостные натуры смогут согласиться, собраться, сосредоточиться вокруг Логоса – единства, собирающего и говорящего, что «все – одно». Здесь Логос объявляет людям самого себя, само свое существо, саму свою суть, свой дух – одно (единство), и свое тело, свое содержание – все (множество).
* * *
Очевидно, древнейшая метафизическая проблема должна была возродиться на новом витке и должна быть решена целостным созерцанием целостного духа, целостного разума, участием целостной личности в движении мира, после того как в нем был явлен и раскрыт Бог-Логос, Сын Божий. Чем хомяковская проблема одного и множества отличается от гераклитовской? Мир резко меняется с приходом Логоса в истории и тем не менее движется одним путем, который делает совокупность только частью интегрального духа, только разумом. Хомяков был отделен от этого пути, он на пути, проложенном святыми отцами и учителями православной Церкви. Однако если у Гераклита можно найти много материала для христианской рецепции, что мы и попытались показать выше, то на пути западного рационализма, ушедшего от целостного духа тех, кто стоял в самом начале, невозможно найти ничего от детской первозданности досократиков, которая могла стать удобренной почвой нового начала. Развитие духа на Западе, от Аристотеля до Гегеля, свидетельствует о разрыве, о разделении наук, разделении практических дисциплин, разделении теоретического и практического разума, отделении веры от знания, знания от поэзии, поэзии от нравственности, нравственности от политики и, следовательно, самих наук друг от друга… Поэтому Хомяков и должен был выступить в полемосе, в антитетической диалектике, когда пошел от основной проблемы метафизики единства во множестве или всеединства, как это сказал бы Владимир Соловьев. Однако основой любой полемики было то, что положительно установлено: свободное единство в любви. Это соборность, это Логос-Слово, собранность (совокупность), все собирающая. Это Логос Откровения, увиденный и засвидетельствованный апостолами, это воплощенное Слово Божие, Слово божественного разума, ставшее в мире распадающихся, обособленных вещей смыслом, искомое как смысл жизни – оно и есть само со-причастие Вечного Собора, собранная собранность, единая природа в трех лицах, оно есть Личность. Это Троица, Вечный, личностный Собор.
В этом, другом, хомяковском начале все есть одно, но по образу Личности, значит все есть одно, но в свободе и любви. Это единство есть гармоничное, любовное единство свободных членов, по образу Вечного Собора. Личности нет, если нарушено это равноправие, это «равновесие». Поэтому Хомяков и может сказать, что католичество – единство без свободы, то есть союз, а не истинно христианское, истинно церковное единство, «единство истинное, внутреннее, плод и проявление свободы, единство, которому основанием служит не научный рационализм и не произвольная условность учреждения, а нравственный закон взаимной любви и молитвы, единство, в котором при всем различии в степени иерархических полномочий на совершение таинств никто не порабощается, но все равно все призываются быть участниками и сотрудниками в общем деле, словом, единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению – таково единство Церкви» (в романизме, по сути, отсутствует свободное множество, то, что свободно вокруг самой собранности собирается; он надменно-гордый, ибо считает себя частью, господствующей над целым), а протестантизм – это свобода (множество) без единства, «свобода постоянного колебания, свобода, всегда готовая взять назад приговоры, ею же произнесенные накануне, и никогда не уверенная в решениях, произнесенных нынче <…>, свобода нелепой веры в себя, проявляющаяся в том, кто творит себе кумира из своей гордости» (не хватает ему самого Логоса, того единственного, в Вечном Соборе соединенного, вокруг чего все собирается). И в романизме, и в протестантизме отсутствует истинная Церковь, отсутствуют члены церкви, собранные в Логосе как Личности, то есть Любовь, отсутствует единство свободных членов, собранных в любви. Ведь важно не количество – там, где бесконечно много согласных в какой-нибудь идее, не может быть соборности, если отсутствует Дух Святой, который собирает всех в единстве. И существенно при этом не просто единство – там, где всего лишь двое собраны во имя Господа, там и есть соборность, если Дух Святой насыщает их взаимной любовью. Любая другая совокупность есть организация, а не организм, любой вид организованной церковности есть уже какая-то нецерковность – государство, какой-то загон Великого инквизитора, потому что истинно общественное тело не является скоплением атомов, индивидов, соединенных механическими связями, идеологическими отношениями или отношениями интересов и пользы, истинно общественное тело спаяно органическими связями, как в маленькой сельской общине, которую так превозносил Хомяков. Потому что эта община оцерковлена, общественное тело здесь напоилось кровью и насытилось телом Слова, Вечного Собора. Нет государства как организующей силы, которое могло бы дать что-то подобное. Поэтому свой принцип соборности, которым Хомяков определяет Церковь, он не может распространить на формы государственного правления, несмотря на уровень их демократичности, несмотря на свободу, обеспечивающуюся законами, но может и должен распространять его на общественное тело. Разрывание общественного тела на части, дележка его между церковью и государством – последствие одного из самых ненавистных разделений и подмен. Когда церковь отделилась от государства, была устранена не только всякая возможность теократии, что совсем несущественно, но и (со стороны государства) сама возможность особоривания общественного тела, его органической жизни, его культуры. Государство стало забирать все, а церковь терять все. Это наглядно показал коммунизм. Люди оказались в ситуации полного затемнения той соборности, той словесности, к которой и сами повернулись спиной, уверовав в свой собственный разум и способность создать рай на земле без Бога. Однако коммунизм, новая коллективность, возомнившая, что может заменить собой соборность, показал, так сказать, методом от противного, что любое пассивное ожидание апокалипсиса недостойно сынов человеческих. Свободная любовь ни на один миг не должна быть только риторикой, гораздо лучше гераклитовская угрюмость, потому что неосуществляющаяся любовь, не взаимная любовь, любовь как риторическое произношение самого слова без внутреннего ощущения и внешнего действия, в конце концов переходит в болезнь и лицемерие, она не становится действенной, жертвенной любовью и остается только созерцательной любовью, любовью самолюбивой, не рождающей и не развивающей жизнь. А свобода была бы эгоистичным произволом, и, несмотря на все восстановленные и отреставрированные храмы, несмотря на всякий внешний блеск и великолепие, намного приемлемее гераклитовский огонь, а та соборность, о которой Хомяков говорит как о начале истинно спасающей христианской философии, была бы лишь одним из институтов лицемерного сообщества (добавим в скобках – достойным презрения), была бы гораздо ниже гераклитовского одиночества и даже его ненависти к своим ефесяням, которые не хотели послушать Логос.
Свободную, деятельную, жизнеподдерживающую и восстанавливающую любовь хранил в себе Хомяков. Этот универсальный человек осуществлял в жизни то, что Федоров воздвигнул до уровня заповеди: единство знания и действия в вере в Пресвятую Троицу. Знания, которыми обладал, Хомяков применял в жизни. Ведь начало деятельной любви следующее: жизнь – добро, а смерть – зло. Последовательно надо бороться за жизнь против смерти. Где еще может быть вершина всех знаний, в чем они могли бы собраться и быть не нововековой логией, наукой, а логосными, в древнем, первозданном смысле, тем, что вокруг чего-то собирается, вокруг какого-то собственного смысла, тем, что дает питье и пищу для жизни, раскрывая кругозоры по ту сторону всякой пространственно-временной ограниченности, всякого страдания, болезни и смерти. И химия, и физика, и биология, даже математика собираются в медицине как науке поддерживающей и спасающей, отнимающей от смерти эту тлению и преходящему подвластную жизнь. А Хомяков был не только теологом, и не только поэтом, и не только конструктором сельскохозяйственных машин, он был и врачом, лечащим своих крестьян.
III
Славянофилы пошли от частного, обособленного, самобытно русского и тем самым проникли в общее, универсальное; пошли от русского, а назвались славянофилами: русским для них стало Православие, вера сербов, и болгар, и румынов, и греков – то, что выше всякой особности, всякой национально-географической специфики. Славянофилы заботились о своем, возделывали свою ниву, как истинные христиане, далекие от имперских амбиций, внешней агрессии, русификации, далекие от всякой политики, которой не дана роль защиты национальной самобытности и национального общественного организма. Их не интересовало ни государство, ни правительство, которое гражданскую жизнь организует либо принуждением, либо на манер протестантского демократизма. Их интересовало свободное, органическое общество, которое они пытались реализовать, укрепленные в своей вере, в своей Церкви, в своей сельской общине. Озаренные этим служением, они могли быть светом и для отступившихся и заблудших, и не через осуждение, а скорее через печалование (Федоров), скорее добродетелью, чем законом, скорее любовью, чем внешними связями, свободой, чем необходимостью, хлебом насущным, чем богатством, этикой, чем политикой. И вообще не политикой, а всегда лишь свободным единством, нравственностью, любовью.
Именно этот дух пронизывает славянофильское послание к сербам. Возможно, что это послание сегодня более актуально, чем когда-либо. Много схожего между русскими и нами, об этом даже и говорить не стоит, и, судя по всему, судьба у нас одна. Но сербы уже в чем-то пошли дальше русских. Сербы сегодня являются, может быть, единственным славянским племенем, которое за всю свою историю не имело хотя бы несколько десятилетий свободы и стабильного мира, чтобы собраться и укрепиться в своем самосознании и своей самобытности. Сербы это собирание и укрепление делали на ходу, в иммиграциях и эмиграциях, в выгонах и переселениях, в революциях, восстаниях и разбоях, в братоубийственных войнах, которые и сегодня, открыто или завуалированно, совершаются под игом восточных и западных врагов христианства. Сегодня наш общественный организм ослаблен, обессилен, распят между собственными противоречиями, между противоречивыми внутренними потребностями и внешними давлениями. Внешняя сила сегодня покупает и разоряет нас, всеобщий раскол – между внешним поведением и глубинными, теперь почти бессознательными желаниями и потребностями – держит нас на римском кресте страданий и мук, граничащих с отчаянием. Раскол разоряет и то малое количество братских отношений, которые связывали нас при коммунизме, и тем не менее нас держит и крест жизни и воскресения, радостной надежды на какое-то новое, грядущее собирание. Под внешней податливостью и внешним мнимым спокойствием в каждом из нас содержится, хоть самое маленькое, зерно глубокого отвращения не только к силе, которая в данный момент грозится уничтожить наше национальное существо, наш народный организм, но и к нам самим, поскольку мы поддаемся этой силе и убиваем самое родное в нас.