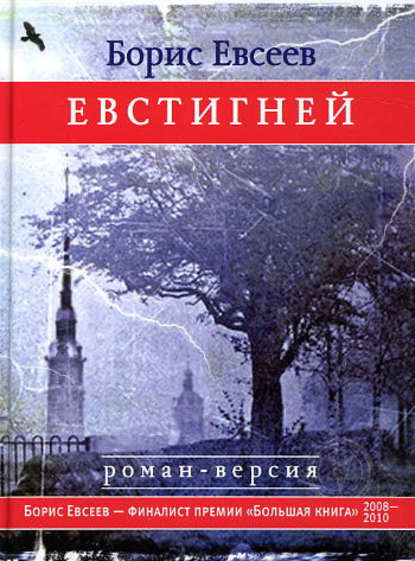По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Евстигней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Профессор анатомии удивлен. От сего удивленья мнет очередного мальца сильней, чем требуется.
– Вас ист дас? – спрашивает сам себя герр профессор, оглядев, а потом для верности и ощупав рану на боку у мальца.
– Точно так… Васька даст!..
Это малец, тихо, шепотом.
– Иншульдиген?
– Васька тому олуху, тому сынку унтер-офицерскому, что меня поранил, по шеям ух как надает!
Профессор Пекен хмурится.
«Лишние слова есть непорядок. Воспитанник – даже ишчо не воспитанник, а кандидат – с профессором говорить не смеет вовсе».
Герр Пекен колеблется: отвесить подзатыльник? Отчитать? Поговорить ласково?
– Воспа была? – склоняется к ласке профессор.
– Не могу знать. А токмо…
– Умолкни, пень. – Герр Пекен возвращает и себя, и воспитанника на должное место. – Молчи, айне кляйне шайсе.
Герр профессор – неудачник. От неудач в фатерлянде не так давно сбежал в Россию. Поэтому стоит ему хоть слегка расстроиться – и вся жизнь идет прахом, осознается как нечто напрасное, тошное. Вот и сейчас: взгляды мальцов представляются профессору дерзкими, сами они – зряшным семенем, пустым, ни к чему не годным. От таковых представлений – дрожь по телу и кривинка в лице. Гадко, горько!
«Хотя… Жизнь далеко еще не кончена, карьер не завершен. Двигаться мыслью… или как это по-русски?.. шевелить мозгами – ишчо способен! Сила в руках имеется. Не высок, а статен. Хоть плешив, а заметен. А что Маришка вчера отказала, так сие есть вздор. Да и поправимо в будущем…»
– Ножницы сюды, – зычным баском подзывает профессор дядьку-смотрителя.
Ножницы поданы, малец-воспитанник веки от страху сожмурил. Кривинка рот профессорский отпустила, снова ему отрадно, весело.
«Отхватить бы у мальца – ишчо чего!»
Дзень!
Профессор Пекен долг свой знает. Вострые ножницы отхватывают только то, что положено: прядь волос. Волосы, светлые, с каштановым отливом, падают на пол. Дядька-смотритель их тут же подбирает, подает с поклоном профессору. Тот кладет прядь на столешницу, затем идет в угол просторной комнаты. Сняв с огня оловянную плошку, сует в нее кончик обструганной палочки. Палочку проворачивает вкруг своей оси, возвращается к столу, каплет бережно сургучом на казенную бумагу.
Волоски живые, волоски шевелящиеся – вмиг к бумаге и прилипают!
Евсигней сын Ипатов, Воспитательному училищу при Императорской Академии художеств и душой, и цифирью, и частью волосяного покрова — «сего апреля 14 дня 1767 году» – навеки придан…
Апрель 1767 года случился в Санкт-Питер-Бурхе тихим, благостным. Западные морские ветра – злобноватые, настырные – города почти не достигали. Но все одно: на губах – солоноватая влага, на щеках – шелушение кожи.
По временам, если вслушаться, город шумел. Чаще – как морская раковина. Иногда – как подслеповатый чухонский бор. Реже – стонал, как растревоженный водою погост. А уж стуки-то, стуки! Дробно и звонко отзывался под копытами булыжник, глуховато бубнил известняк тротуаров, под железными ободами колес на разные голоса пела брусчатка.
Домы тоже звучали по-всякому. Иные подвывали печными трубами. Иные визжали дворней. А дворцы… Те до полудня вообще молчали. Ясное дело: со сна. Вечерами же взметывали снопы едва слышимой таинственной музыки.
А вот с Царицына луга, из Летнего сада, музыка доносилась грубая, громкая. Попетляв меж деревьями, покувыркавшись близ набережных и там никому особо не пригодившись, музыка эта грубоватая возвращалась на проспекты, просилась в каменные дома, под высокую руку иностранцев, вельмож. Но впускали туда грубую и громкую – нечасто…
Дом-дворец, с только что надстроенным третьим этажом, в коем расположилось Воспитательное училище при Академии художеств, днем чаще молчал. А вот перед ночью – так по временам чудилось шмыгающим мимо него людишкам – тяжко вздыхал. Даже и ухал, как тот ушастый пугач!
Про дом говорили разное. Говорили: не для счастья сей дом-дворец выстроен. Еще добавляли шепотом: быть в том дому беде!
Правда, когда именно ждать беды, того не сказывали. Только слепнущий старик-сторож из муромских лесовиков, садившийся по вечерам на приступку, близ портика с шестью колоннами, иногда бормотал странное.
Бормотал: чрез многие годы – но никак не ранее, чем чрез сто пятьдесят годков – стать сему дому знаменитым. Причем знаменитым на всю империю! Тут слепнущий сторож оглаживал себя по бороде, добавлял, размякнув: а знаменитым дому стать чрез некого сибирского Гришку, срамца, наглеца, провидца.
– Сей Гришка – срамец, наглец и женскими грудями игрец – всем покажет: и што у ево в штанах, и што у ево в голове…
Впрочем, сторожа-слепца мало кто слушал: век Просвещенья струил себя сладко над Малой Невкой! Воспитательные и иные прожекты ручьями журчали в головах у высоких людей. Куда там слепцов слушать!..
В этот ухающий, а чаще молчащий дом Евсигней сын Ипатов – под присмотр наставников, на казенные харчи – ровно на седьмой день после осмотра и подписания бумаг и был определен и доставлен.
Попервоначалу страшно ему было и боязно, но и веселье жутковатое к горлу подкатывало. Кругом белокаменные фигуры, чистота, однако ж в подвалах – плеск воды, а в отдалении – пугающий гул пустых коридоров.
Как к такому привыкнуть?..
Через неделю, ближе к исходу все такого же апрельского дня, Иван Федотов и женка его Аксинья брели сквозь сырость и прель в полковую слободу, в крохотный чулан, в крохотную квартерку для семейных солдат.
Аксинья Михайлова дочь дорогой вздыхала. Рюмзать на улице, однако, не решалась. Да и чего рюмзать? Евсигнеюшку пристроили, сама – молода ишшо, муж небось не за тридевять земель, а здеся, под боком.
Рюмзать, однако, хотелось.
– Иванушко…
Иван сердито крякнул. Разговоры на улицах ни начальством, ни им самим не дозволялись. Женка обязана следовать позади, отставая ровно на четыре шага.
«Поучить? Дать меж рог?»
Пожалел, не дал.
– Иванушко… Евсигнея, того… Давай возвернем его обратно. Помощничек тебе будет…
– Пс-ст… Сдурела баба. В документ Евсигней твой вписан! И по документу он, слышь ты, теперь существует – токмо как воспитанник. Сего изменить невозможно. Поклоницца б ишшо его благородию капитану… За труды.
– Поклонимся, поклонимся…
Аксинья Михайлова дочь от счастья, что не убил ее до смерти страх за дитя, зажмурилась: «Уж и Евсигнеюшке, как отцу его покойному, Ипату Фомичу, доля определена. Ипат Фомич шибко скоро помер. Каково-то Евсигнеюшке придется?»
Солдат Федотов, глядя на женку, доставшуюся ему после покойного канонера Тобольского полка, улыбнулся в усы. «Складная, и лицом круглая. Даже и слеза личит ей. Эх! Кабы не бесконечная служба солдатская! Закатиться бы с женкой на украины, от столиц подале. На украинах, сказывают, воля! А с проворной женкой – так еще и доля».
Тут же он вспомнил и документ, неделю назад в стенах Академии им подписанный. Память солдат Федотов имел отменную, читанное однажды помнил всегда.
Документ составлял некий ярыжка, славное заведение токмо позорящий: с козявой в носу, с губою пьяной и ногою кривенькой. Зато руку ярыжка имел ловкую! Руку, видать, и ценили.
Ярыжка от лица неписьмённой Аксиньи и под диктовку секретаря Академии тогда нацарапал:
«Я нижеподписавшаяся… доброволно императорской Академии художеств в Воспитателное училище отдаю малчика свого родного Евсигнея Ипатьева, прижитого с первым мужем моим Тоболского пехотного полку полковой артиллерии канонером Ипатом Фоминым сыном Фоминым… Во уверение чего и подписуюсь.