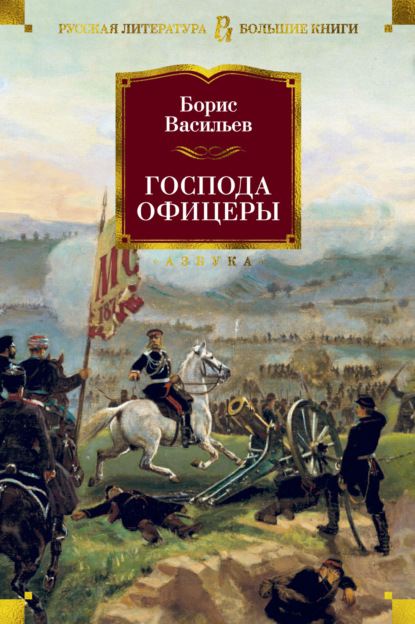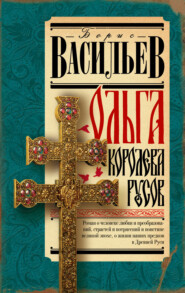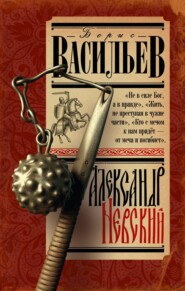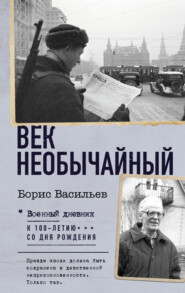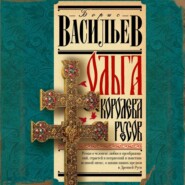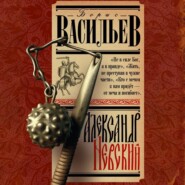По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господа офицеры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тогда, знаешь… – Федор задохнулся словами. – Возьми меня с собой, а? Возьми, пожалуйста, возьми! Я работать хочу научиться, я пользу хочу приносить и понять все, я…
Гавриил громко засмеялся, но Федор уже не обращал на него внимания. Он был весь во власти идеи, он уже жил ею, он уже шел куда-то, уже пахал, ловил рыбу или рубил избу: привычно и восторженно кроил шубу из неубитого медведя.
– Да что ты, Феденька, – улыбнулся Захар. – Душа у тебя добрая, это конечно, только шкворень бы ей выковать…
– Вот вы где, – сказал Иван, заглядывая в беседку. – Идемте же к Варе, она по всему саду гонцов разослала.
– Идем с нами, Захар, – сказал Федор. – Мы как раз семейные дела решаем.
– Нечего там Захару делать, – прервал Гавриил, выходя. – Мы и сами-то толком не знаем, что решать да о чем говорить.
Однако Варя знала, чего хотела. Высокое было собственностью мамы только при жизни, после смерти оно отходило к отцу. Конечно, он никогда не оставил бы младших без средств, но по капризу или в порыве отчаяния мог, никого ни о чем не спрашивая, продать имение и предложить всем перебираться на Псковщину. Вот этого Варя и не хотела и боялась и поэтому заранее решила условиться, чтобы в случае необходимости прозвучало хотя бы всеобщее неудовольствие.
– Послушает он нас, держи карман шире! – сказал Владимир.
– Оставь юнкерские прибаутки для казарм, – нахмурилась Варя.
– Господи, о чем вы, о чем? – вздохнул Иван – с младшими его заменила Маша, не желавшая более видеть Гавриила. – Можно же и потом об этом, после всего.
Он не сказал «после похорон», не смог выговорить.
– После всего он уедет.
– И я уеду, – вдруг сказал Гавриил.
– Знаете, я, пожалуй, тоже… – начал было Федор, но замолчал, потому что все сейчас смотрели на Гавриила.
– Торопишься в полк? – спросил Владимир.
– Нет, я в длительном отпуску. – Гавриил говорил отрывисто, словно нехотя. – Я еду в Сербию.
– В Сербию? – недоверчиво переспросил Иван.
– Да. К генералу Черняеву.
– Это прекрасно! – восторженно воскликнул Федор. – Это замечательное, благородное решение, я… Я завидую и от всего сердца благословляю тебя.
– А как же «не убий»? – усмехнулся Гавриил. – Я ведь убивать собираюсь, Феденька.
– Счастливец! – заулыбался Владимир. – Если бы я мог…
– Как глупо! – резко сказала Варя. – Как оскорбительно глупо все, о чем вы говорите! Все ваши восторги, планы, шуточки над маминым гробом.
Все примолкли. Федор виновато развел руками и сел. Владимир перестал улыбаться.
– Ну, давайте скорбеть, – сказал Гавриил. – Хором или по очереди?
– Нет, это, право же, нехорошо как-то, – вздохнул Иван. – Мы забываемся, а это нехорошо.
– Нехорошо то, что фальшиво, – сказал Гавриил. – А если мы искренне улыбаемся, то ничего плохого в этом нет. И это никак не может оскорбить ни наши чувства, ни мамину память.
Варя не успела возразить: из залы вышел отец. Все встали, глядя на его осунувшееся, окаменевшее лицо с остановившимися, невидящими глазами. Он медленно подошел, остановился перед Варей, хотел что-то сказать, но губы запрыгали, и он прикрыл их рукой, разглаживая усы.
– Что с вами, батюшка? – тихо спросил Федор.
– Почему у нее, – старик дрожащими пальцами потыкал щеку, – пятнышки? Здесь пятнышки?
– Она полола, – сказала Варя. – Полола и упала в землю лицом.
– Последняя боль. – Старик покачивал головой. – Кто решил здесь хоронить? Кто сюда везти приказал, я спрашиваю?
– Мы, – растерянно сказал Владимир. – Я, Маша, Ваня, Захар…
– Захар! – Отец яростно отмахнулся. – Что он понимает, ваш Захар! Там ее земля, в Высоком, неужели не ясно? Там, где полола, во что лицом, лицом уткнулась в последний раз. Назад! Запрягать! Немедля!
Все молчали, переглядываясь в замешательстве.
– Батюшка, это не очень удобно, – отважился Гавриил. – Везти тело за тридцать верст в такую жару. И так уже… – Он замолчал.
– Пахнет, да? – выкрикнул старик. – Чего же недоговариваешь, чего мямлишь, офицер? – Он обвел всех суровым взглядом. – Здесь простимся. Сейчас, пока закладывают. Здесь простимся, а там, в Высоком – ее Высоком! – похороним. И меня тоже там. Рядом, гроб к гробу, слышите? Гроб к гробу!
И зашагал к дверям, откинув седую голову к прямой, как древко, спине.
Глава третья
1
Василий Иванович Олексин так и не получил Вариного письма, адресованного в далекий американский городишко. Письмо медленно ехало по Европе, медленно плыло по океану, подолгу залеживалось в почтовых мешках, а когда в конце концов достигло назначения, адресат уже пересекал Атлантику в обратном направлении, перебирая в памяти осколки разбитых вдребезги иллюзий.
Правда, мечты превратились в иллюзии недавно. А до этого еще со студенческих сходок они являлись смыслом жизни, самой возвышенной, самой святой идеей века. Даже тогда, в самом начале пути, при первых встречах с Марком Натансоном и его супругой Ольгой Александровной, когда идея только как бы парила в воздухе, уже родившись, но еще не одевшись в слова, даже тогда она не казалась иллюзорной. Она была истиной, и ее воспринимали как истину, как единственную, равную откровению формулу, уравнявшую счастье народа с подвигом во имя этого счастья. Осознание своего долга перед большинством, порабощенным государством, церковью и вековым невежеством, делало их бесстрашными, сильными и гордыми не перед людьми, а перед судьбой. Прежние представления о жертве во имя прогресса, о миссионерско-просветительской деятельности, о благородном порыве, сострадании, милости и прочем были отброшены: они изначально разводили народ и тех, кто хотел служить этому народу, на неравноправные, заведомо противопоставленные друг другу позиции благодетелей и просителей. Нарушалось не просто равенство, его не могло быть, – нарушалась взаимосвязь целого, называемого народом, нацией, родиной. Мозаика не складывалась, картины не возникало; темная, непонятная масса шла своим, особым путем, а те, кто хотел служить этой безликой массе, – своим, и пути эти никогда не пересекались, как рельсы Николаевской дороги.
– Парадокс в том, что мы, дети народа, его плоть и кровь, настолько оторвались от него, настолько обособились, что цветем на его теле чуждым, непонятным и пугающим его цветом, источая раздражающий аромат роскоши и тунеядства, – говорил Красовский, их трибун и идеолог, по имени которого и называли их кружок. – Нам необходимо вернуться в материнское лоно не для того, чтобы раствориться в нем, а для того, чтобы всеми силами, знаниями, талантом облегчить ему жизнь и страдания. Будущее России в единстве народа и интеллигенции. Служить народу – значит вернуть ему наш неоплатный долг, постараться возместить то, что господин Лавров так блестяще определил как цену прогресса.
Однако уплатить эту «цену прогресса» оказалось непросто: во-первых, сам кредитор не желал принимать долга, с привычной недоверчивостью встречая очередное господское начинание; во-вторых, правительство немедленно усмотрело в этом противозаконие, и наиболее активные пропагандисты и ходоки в народ вскоре очутились за решеткой. Петербург и Москва готовились к небывалым по количеству обвиняемых политическим процессам. Не понятое и не принятое снизу течение оказалось разгромленным сверху – сотни арестованных ожидали своей участи в камерах, остальные разбежались, затаились, ушли за границу.
Василий Иванович был арестован, но до суда отпущен на поруки с высылкой под надзор по месту жительства. В Высоком тогда, два года назад, вместе с мамой жили Варвара и Федор; никто ни о чем не расспрашивал, никто не упрекал, никто не жалел, и Василий Иванович вскоре оправился от потрясения, вызванного первым знакомством с голубыми мундирами. Поехал в Смоленск, привез две телеги книг, много читал, много думал. Когда Федор или Варвара приставали с вопросами, виновато улыбался, бормотал и старался уйти к себе. А мама укоризненно говорила:
– Васенька торбочку примеряет, а вы мешаете.
– Какую торбочку, маменька?
– Собственную. У каждого своя торбочка, и как наденешь ее, так и до смерти не скинешь. Поэтому ошибиться нельзя: надо по плечам брать, по силам мерить.
Вскоре Василий Иванович, отложив книги, стал частым гостем в деревне, с наслаждением принимая участие в общинных работах: косил, жал, возил с поля снопы. Говорил о чем-то с мужиками, особенно со старостой Лукьяном и Захаром. Федор преданно сопровождал его, но был еще молод, многого не понимал, зато запоминал все. Путался, страдал и наконец не выдержал:
– Что тебе в них, в мужиках, Вася? Экают, мекают, ничего толком объяснить не могут. Тупы, как верблюды загнанные, а ты время тратишь.
– Тупы? – Василий Иванович улыбнулся. – Очень уж себя мы любим, Федя. А это самое легкое: себя-то любить. Нет, ты вот такого полюби, потного да нечесаного, в лаптях да сермяге. Тогда прозреешь. И все разглядишь: и сердце доброе, и совесть, и справедливость, и ум, которому любой позавидовать может. Только в коросте пока все это. Триста лет коросте той, Федор Иванович, брат мой любезный. Пока мы французские глаголы да английские времена учили, кормилец наш пот со лба смахивать не поспевал. Высыхал тот пот на нем, слой за слоем в коросту превращался, и мы уж своего же брата узнавать перестали. А ведь мы должны ему.