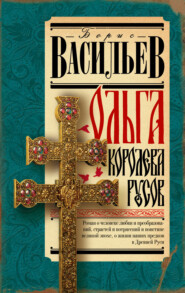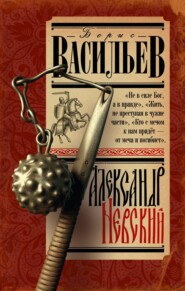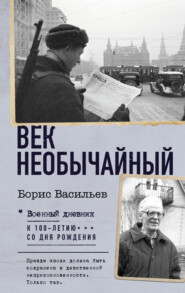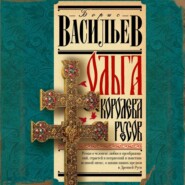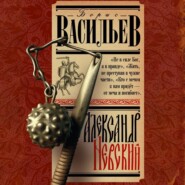По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Завтра была война (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я начал рассказ о ломовых извозчиках, потому что в детстве не существовало большего удовольствия, чем катание. Правда, почему-то только зимой: сани мягко скользили по укатанному снегу, морозный ветер холодил лицо, радостно фыркала лошадь, и жизнь и ощущалась и в самом деле была праздником. С середины марта снизу, с Днепра, шли бесконечные обозы: везли укрытые рогожами ледяные глыбы, выпиленные из речного льда. Их доставляли на городские холодильники, льда требовалось много, смоленские горы были круты, и битюги, оскользаясь, волокли нагруженные платформы в гору, а вниз шли порожняком. И вот тут-то и следовало догнать сани и вскочить на ходу, но непременно спиной, чтобы кнут пришелся бы по пальтишку. Кнуты посвистывали, но куда чаще мы катили вниз в полном согласии с хозяином. Обратно, в гору, прицепиться было сложнее, но и тогда находился кто-либо, понимавший мальчишескую страсть. Кроме ломовых существовали и легковые пролетки, и санки, и крестьянские розвальни, и лесовозные роспуски, но ломовик был более массовым и более демократичным, и мы предпочитали его.
А автомашин было мало. Мы знали их наперечет, но я особо следил за желтой легковой, которая гонялась за мной довольно долго. Не знаю, кому она принадлежала, потому что мне тогда везло и я вовремя уносил ноги. А преследовала она меня из-за того, что я однажды кинул палку ей под колеса: интересно же, как палка сломается, правда? Вот я и кинул, но не рассчитал, и палка треснула шофера по голове, поскольку машина была открытой. Он невероятно оскорбился и долго пытался мне отомстить, но, повторяю, я замечал его первым. А вскоре произошло совершенно невероятное событие.
В самом начале тридцатых годов штаб, в котором служил отец, начал менять автопарк, списав в утиль старые машины. Но отец предложил не выбрасывать это старье, а отремонтировать и на его базе создать клуб любителей автодела, как это тогда называлось. Отца поняли, поддержали и… отдали в его распоряжение три списанные машины и бывший каретный сарай. Он размещался напротив нового стадиона, что был устроен на бывшем плацу возле Лопатинского сада и где стоял чугунный памятник-часовня героям 1812 года, а по бокам его – две бронзовые пушки, с которых я смотрел первые в своей жизни футбольные матчи.
Три автомобиля: грузовой «уайт», столь же древний «бенц» и знаменитая русская легковая машина «руссо-балт». Каждая машина отличалась не только маркой и назначением, но имела и свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу как мог и чем мог и сейчас хочу вспомнить хотя бы о грузовичках.
«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон (камера и покрышка), а металлический обод, облитый сплошной резиной. Вследствие этого летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил, буксовал и терял управление на всех горках, а поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им редко. Кроме того, «уайт» имел настолько низкие борта, что отец сажал людей на пол, а там трясло совсем уж немыслимо. Кабины у него не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно посередине. Однако отец почему-то именно на нем чаще всего обучал своих бойцов.
Насколько «уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «бенц» казался несуразно коротким. У него была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина делалась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и кривые смоленские горы. Кроме того, «бенц» имел еще и конусное сцепление, которое часто слипалось, и тогда мы либо пилили на уже включенной передаче, либо отец глушил мотор и лез под машину расцеплять не желавшее расцепляться. Это случалось куда чаще, чем можно вообразить: грузовичок вел себя с капризами живого существа.
Но самым оригинальным был его сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял собой маленькую сирену с ручкой, напоминающей водопроводный вентиль, который надо было вращать как можно быстрее. Естественно, тот, кто сидел за рулем, не мог этим заниматься, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку смоляне ходили, как хотели, когда хотели и куда хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки со всего города безошибочно определяли:
– Борькин папка на драндулете шпарит!
Сложнее всего оказывалось, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была человеком, мягко говоря, взнервленным, легко выходила из равновесия, боялась машины, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось нечем. А люди блуждали под колесами, несмотря на устрашающий грохот нашего «бенца», и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:
– Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!
Если при этом учесть, что сиденье «бенца» было пухлым от обилия нежнейших пружин, а смоленская мостовая – отнюдь не предназначенной для автомобильного движения, то можно вообразить, как выглядела эта езда. На каждом ухабе пассажиры взлетали выше кузова, рискуя опуститься в полнейшую неизвестность; отец при этом держался за руль, женщины – за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука. Словом, это были путешествия из раздела незабываемых.
Правда, если говорить начистоту, то отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой адрес и смеялся раньше всех. Он выпросил совершеннейший металлолом, который красноармейцы на ручках перекатили из гаража при штабе в каретный сарай напротив стадиона. И можно представить, сколько сил затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого, упорно веря, что все дело лишь в желании да труде. И ему всегда хватало и труда, и желания.
В нашем гараже не было электричества: глухой каземат без окон, цементный пол, верстак, ящик с песком и бочка с бензином. Дело в том, что бензоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду оптом, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели.
Случилось это поздней осенью, и ворота были закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под «бенцем», подстелив войлочную кошму, и регулировал пресловутое конусное сцепление. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая требуемые инструменты, и громко распевал песни. У меня никогда не было ни слуха, ни голоса, но была – и есть по сей день – потребность петь во все горло. И я орал песню, которая гулко раздавалась под кирпичными сводами, и тут погас фонарь. В этот момент я подавал отцу очередной ключ, и он сказал:
– Спички над верстаком, на полочке. Сможешь сам зажечь?
– Смогу, – ответил я и наступил на керосиновую лампу, которая стояла на кошме, освещая отцу объект регулировки.
Раздался хруст, стало темно, а потом по кошме побежали огненные ручейки. Я заорал еще громче, ощутив вдруг прилив необъяснимого восторга. И сквозь ор еле расслышал треск и напряженный, но спокойный отцовский голос:
– Открой ворота и уходи. Открой ворота и уходи.
Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, как только я раздавил лампу. Но до этого он разъединил тяги и зацепился гимнастеркой за рычаг и, лежа, рвался из-под «бенца», не видя, как отцепиться. Пока я в неверном свете начинающегося пожара искал запоры ворот и открывал тяжеленные створки, а отец, разодрав до горла гимнастерку, сорвался с рычага и выкатился на волю, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг ярким пламенем, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант; бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и – руки. Конечно, это горел бензин, который выплескивался на руки, но я и сейчас помню бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил ее, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и спешно покатил горящую бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за миг до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя почти все квартиры лишились стекол.
– Шляпа! – сказал отец, загасив остатки пожара.
Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: значение определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был мастак ругаться…
Каждый год летом мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни: ну пыли в нем было побольше. И все же ездили – думаю, срабатывала привычка – сперва в Высокое, потом – снимая где-либо что-либо. Мама любила Вонлярово, и отец в майские праздники – это были едва ли не единственные гарантированные свободные дни для командиров – отправлялся договариваться. И было три машины в его полном и бесконтрольном владении, а мы поехали на велосипеде. И помню разговор накануне:
– Я не могу, Эля, не имею права. Вот когда будем переезжать, тогда пойду в штаб и попрошу разрешения.
– Я не пущу с тобой Бориса!
– А ему-то не все равно, на чем ехать?
И я поехал на отце. А сколько отцов не выдерживало, не выдерживает и еще не выдержит искуса и повезет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на эту машину и порой способен погубить душу на веки вечные. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщинами рождаются, то мужчинами становятся.
…Закройте глаза и представьте: по современному шоссе, забитому «жигулями» и «запорожцами», «москвичами» и «волгами», неторопливо работая педалями, едет старый человек в офицерском кителе без погон, сапогах и белой полотняной фуражке. Ему за семьдесят, у него отрублен палец на левой руке, отравлены газами легкие и прострелено плечо. А он – едет. Навстречу потоку.
Вопреки…
В Вонлярово можно было проехать большаком, можно – по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не нужно усматривать в этом стремление к оригинальничанью – он вообще был лишен его начисто, – а вот стремление к расширению моего горизонта у него было всегда. И мы поехали по тропинке, что вела вдоль железнодорожного полотна. Она была утоптана до бетонной твердости, и ехать было приятно. Я сидел на раме и держался за руль, а отец неспешно вертел педали, и мы катили. По ровному и под гору, а в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем – именно так разговаривают во всем мире с детьми, а со взрослыми – только в России. Но дело даже не в разговорах, – в конце концов, разговоры одинаковы у всего детства – дело в дороге. В том третьем пути, который мы с отцом прошли туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не спидометром автомашины, – измерив собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под горку ты отдыхаешь, а в гору – задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне порой кажется, что все те объяснения – что машины не его, что бензин не его, что… – были затеяны отцом с единственной целью: показать, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой…
Я пишу о своей семье и своем детстве потому, что все, чем я обладаю, – оттуда. Конечно, я идеализирую и свое детство, и свою семью, но идеализировать своих родителей куда естественнее, чем строго реалистически подсчитывать их недостатки. Но поскольку рос я не только дома, я не могу забыть того, с чем, к счастью, незнакомы идущие вослед.
Я был счастливчиком: отец получал комсоставский паек и два раза в неделю – обед для семьи. То есть для мамы, Гали и меня, но ведь были бабушка, Оля, тетя Таня, кто-то еще. И все равно я был счастливчиком, и мне завидовали. С той поры я никогда не ем на улице: боюсь снова увидеть взгляд из тех, тридцатых годов. До ужаса боюсь.
Я стараюсь отвлечься от сегодняшних лиц и вспоминаю лица своих сверстников тех дней. Время размыло их, но оно оказалось не в силах добавить красок в их смутные очертания. И я вижу дряблую старушечью кожу на ножках семилетних девочек, четкие – углем обводили для смеха! – ребра восьмилетних мальчишек, проваленные, точно растущие внутрь, щеки и у тех и у других и серьезные, пугающе серьезные глаза.
…Куда с таким недетским вниманием вглядывались мои друзья? В сытость завтрашнего дня? Она пришла, мы отъелись, заулыбались, запели веселые песни и… И пошли на фронт. И фашистские танки забуксовали на баррикаде из двадцати миллионов наших тел…
С какого-то времени – старею, что ли? – жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег детей. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего; дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот, противолежащий берег, и начинаем спускаться. И есть какая-то черта, какая-то ступень на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. Надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там спросят. На том берегу, где мы – только гости. Порою досадные, порою терпимые, порою засидевшиеся и всегда – незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте…
Я родился на перекрестке двух эпох, и в этом мне повезло. Еще судорожно и тихо отходила в вечность Русь вчерашняя, а у ее одра неумело, а потому и чересчур громко уже хозяйничала Россия дня завтрашнего. Старые корни рубились со звонким восторгом, новое прорастало медленно. Россия уже отбыла от станции «Вчера», еще не достигла станции «Завтра» и, судорожно громыхая разболтанными вагонами, испуганно вздрагивая на стыке дней своих, мчалась из пронизанной вспышками выстрелов ночи Гражданской войны в алый рассвет завтрашнего дня. Наш паровоз летел вперед.
И еще ничего не успели разложить по полочкам, рассортировать и классифицировать. Все было в куче, как в зале ожидания: наивный максимализм и весомые червонцы нэпа; вера во Всемирную революцию и бешеная активность Союза Воинствующих Безбожников; еще свободу путали с волей, еще любой мог считать себя «согласным» или «несогласным», и в анкетах того времени существовала такая графа; в школах была отменена история, а на уроках литературы яростно спорили, стоит ли изучать крепостника Пушкина, и прочно выбросили из программ помещика Тургенева и путаника Достоевского.
Сейчас мне представляется, будто тогда мы наивно и хмельно играли в жмурки, ловя нечто очень нужное с завязанными глазами. И при этом смеялись, хлопали в ладоши, радовались – те, кто стоял вокруг. А те, кто метался в центре, – те не смеялись. Но мы ничего не замечали: нас распирало ощущение победного торжества.
В этой «игре» с завязанными глазами рушилась старая культура и создавалась новая. Отрицание прошлого и всего, что хоть чем-то напоминало об этом прошлом, было столь всеобщим, нетерпеливым и современным, что никому и в голову не могло прийти печалиться по поводу разрушаемой Триумфальной арки, снесенных по непонятной прихоти Молоховских ворот или взорванного храма Христа Спасителя. Нет, кому-то конечно же приходило, кто-то страдал, а кто-то и действовал (ведь спасли же в конце концов Триумфальную арку!), но это – в стороне от потока, от грома аплодисментов, рева труб, грохота барабанов и торжествующего звона песен: «Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы…» Существует атмосфера праздника: мы выросли в климате праздника.
…А вам не кажется, что в праздники люди перестают думать? Вспоминать о потерях, горестях, нехватках, недостатках, болях, печалях? Ни о чем таком, естественно, не вспоминают в праздники, да и сами-то праздники, вероятно, возникли, когда люди вырывались из трудностей хотя бы на время. Но представьте, о чем думают на свадьбе, а о чем – на похоронах: какой простор для размышлений, не правда ли? И это закономерно: трагедия учит, а комедия поучает. Нет, я совсем не против праздников, они необходимы, как радость, но давайте все же помнить, что в праздники мы сентиментальнее, снисходительнее и глупее, чем в будни…
Мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен.
Это – так. Но для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девку?
Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен, определяется отцами. Мать дарует нас силой и здоровьем для этой отцовской цели, если мы – плод любви, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.
Без колебаний приняв Великую Октябрьскую революцию, мой отец был все же сыном отвергаемой культуры. Я уж не говорю о бабушке и маме – женщины вообще консервативнее, а ведь именно они создают тот особый дух семьи, который мы, однажды вкусив, носим в себе до последнего часа. И так было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность вчерашнего дня, тогда как улица – в самом широком смысле – уже победно несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло дисгармонии, не порождало конфликтов: это двойное воздействие в конечном итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить крупповская сталь.
Конечно, воспитывает не только внешняя и внутренняя среда, а сумма самых неожиданных и трудно предсказуемых влияний, сумма авторитетов семьи, двора, улицы, детских и взрослых коллективов. Воспитание не профессия, а призвание, талант, дар божий. И этим благородным божьим даром была щедро наделена моя бабушка. Легкомысленная, никогда не унывающая фантазерка с детской душой, живостью и фигуркой девушки.
…Я сижу в большой комнате и, высунув от старания язык, раскрашиваю командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте «Нивы». Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и раскладывает большой королевский пасьянс. Входит мама. С плачем и пустой корзинкой.
– Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб!
Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма (в ту пору еще не ведали, что курить вредно).
– Элечка, все трын-трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать девятку треф?
– Твое легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня!
– Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня, а сколько дней его не видели эти немытые гавроши? Перестань лить слезы, Эля, и скажи, куда же мне девать эту несчастную девятку треф?..