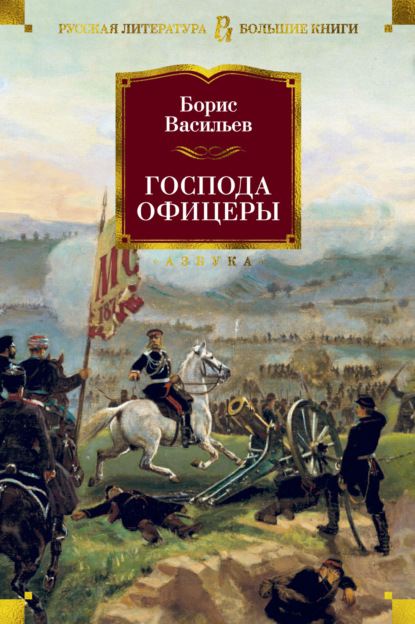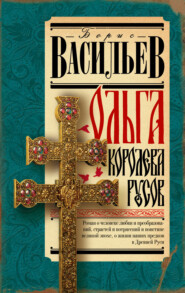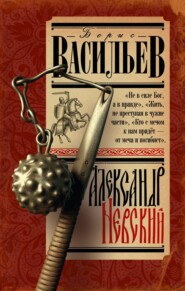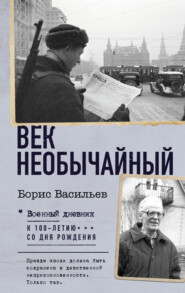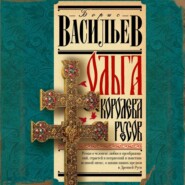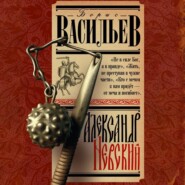По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господа офицеры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гавриил по-сербски говорил плохо, но достаточно, чтобы спросить, чем вызван этот переполох.
– Давно не было русских волонтеров, – сказал провожатый. – Прошел слух, что австрийцы выставили кордоны, чтобы лишить сербов помощи.
Русские не знали, куда их ведут; сербы говорили все разом, перебивая друг друга, отделив Олексина от Захара, забрасывая их вопросами и не ожидая ответов на эти вопросы. Прием был почти восторженным, но Гавриил хотел не восторгов, а дела.
– Говорят, трудно приходится, а мужиков молодых – хоть отбавляй, – недовольно сказал Захар, пробившись к поручику. – На войну надо идти, братушка! Турка бить!
– Турка, турка! – закричали восторженные провожатые, вновь оттесняя его от Гавриила.
Наконец навстречу попался священник с красным крестом на рукаве, и шествие остановилось.
– Добро пожаловать на несчастную сербскую землю. – Священник хорошо говорил по-русски. – Давно не было пароходов с русскими волонтерами, этим и объясняется восторг моих сограждан. Если не возражаете, можем сразу направиться в министерство: ваш багаж отнесут в «Сербскую корону».
Он распорядился, толпа направилась к гостинице, унося их поклажу (Захар смотрел на это с некоторым подозрением, но молчал), и они наконец-то остались одни.
– Направо, – сказал священник. – За багаж не беспокойтесь: нас столько веков грабили османы, что мы научились ценить чужую собственность.
– Что слышно о боях под Алексинацем? – спросил поручик. – Есть известия от Черняева?
– Белград предпочитает ничего не слышать, – с уловимой горечью сказал священник. – У нас очень сложное положение, господа: султан бросил против несчастной Сербии свои лучшие силы и даже части собственной гвардии. А мы заседаем и спорим, спорим и заседаем. И надеемся на чудо.
Министерство помещалось в ничем не примечательном одноэтажном здании, вход в которое был свободен для всех желающих. Здесь священник передал их приветливым чиновникам и распрощался; они быстро получили назначение в действующую армию, документы на оружие и подорожную.
– К сожалению, лошадей пока нет, – сказал улыбчивый сотрудник. – Полковник Медведовский формирует конную группу, все передано в его распоряжение. Завтра постараемся раздобыть вам транспорт и проводника.
– Не знаете, могу я рассчитывать на роту?
– Это в компетенции штаба Черняева. Мы всего лишь чиновники. Денщика я вписал в вашу подорожную, господин поручик.
– Благодарю. Значит, завтра мы можем надеяться…
– Максимум через два дня: все зависит от проводников. С фронта они сопровождают транспорты с ранеными, а отсюда – волонтеров и порох.
До вечера они успели побывать в цейхгаузе, где получили оружие, продукты и форменную одежду. Оружие Гавриилу не понравилось, но он предполагал раздобыть что-нибудь более современное у турок; Захар же с удовольствием нацепил тяжелую австрийскую саблю.
Багаж оказался в отведенном для них номере. Не успели они распаковать его, как раздался вежливый стук в дверь. Захар открыл: на пороге стоял коренастый немолодой мужчина с ленточкой неизвестного ордена в петлице сюртука.
– Здравствуйте, господа соотечественники! – по-русски сказал он. – Вы поручик Олексин? Помню. И тост ваш помню.
– Полковник Измайлов? – удивился Гавриил.
– Бывший полковник, бывший начальник штаба генерала Черняева, бывший идеалист. Бывший, бывший, бывший, – со вздохом сказал посетитель. – Узнал, что прибыли очередные идеалисты, и позволил себе прийти без приглашения.
– Очень рад, – сказал Олексин, несколько озадаченный картинной горечью, с которой Измайлов вошел в номер. – Это мой денщик.
– Все волонтеры имеют одинаковые права. – Полковник несколько демонстративно подал руку Захару и со вздохом опустился на стул. – Права на первое приветствие и права на последнее прощание. Однако все же я злоупотребляю. Давно ли из любимого отечества?
– Вторая неделя.
– И что же там у нас?
– Солнышко то же, а дождик разный, – сказал Захар.
– Остроумно, остроумно. – Измайлов вежливо изобразил улыбку. – И все же?
– А что вас, собственно, интересует? – спросил Олексин. – Ведь что-то же, наверное, интересует, не погода же в Москве, не так ли?
– Интересует? – Полковник помолчал. – Все меня интересует там и ничего здесь, поручик. Желаю не дожить до такой односторонней любознательности. Шумели много, куда как излишне шумели. Победы, лавры, литавры… Не то вывозим из отечества нашего любезного! – вдруг резко и громко сказал гость. – Не то, не то и не то! Шумиху вывозим, показливость свою, трижды клятую, вывозим, идеи и восторги – массово, массово, поручик! А служение идее – где? Где, господа, безропотное, каждодневное, трепетное служение оставляем? В Будапеште, в Вене, на таможнях?
– Следует ли понимать, что вы недовольны русскими волонтерами, полковник?
– Доволен: мрут героически. С энтузиазмом подставляют свой русский лоб всякой турецкой пуле. Вперед, ура, в штыки их, ребята! – это все так, без претензий, как и положено русскому человеку, когда он решился. Когда русский человек решился, его ничто не остановит. Ничто, поручик, знаю, видел, верю! Но кто решился-то? Кто, я вас спрашиваю?
– И кто же?
– Ваш брат – обер-офицер. Его брат – рядовые и унтеры. Молодежь решилась: военная, купеческая, студенческая, крестьянская – всякая. А штаб-офицерство решилось? Решилось оно умереть за идею здесь, на чужих полях, за чужой народ? Нет, поручик, оно не просто не решилось: оно решилось не умирать за эту идею. Оно решилось лавры пожинать, славу черпать и – других гнать умирать. Прибывают сотни людей, тысячи! Думаете, одни русские? Нет-с – болгары, румыны, чехи, поляки, итальянцы, немцы, американцы даже! Все жаждут боя, все горят отвагой, все – молодо и искренне, молодо и искренне, поручик! – хотят помочь несчастной Сербии. Хотят, если надо, оплатить своей кровью цену ее свободы. Но воевать-то, воевать-то они не умеют, господа! И сербы воевать не умеют – что же поделаешь, не приходилось. Армия создана, но армия неопытная, молодая, более склонная к прекрасным порывам, чем к терпеливому исполнению приказов. А против нее турецкий низам, вымуштрованные боевые части. Значит, штабу и командующему необходимо именно это иметь в соображении, именно это ставить в основу операций, будь то блистательное наступление или тяжкая оборона.
– Вы недовольны штабом или командующим?
– Штаб? – Полковник печально улыбнулся. – Штаба больше нет. Командующий пока есть, поскольку ему еще верят и Сербия, и князь Милан, а штаба больше нет.
– С той поры, полковник, как вы перестали быть его начальником?
– Обойдемся без колкостей, поручик. Воевать за чужую победу нужно не только чистыми руками, но и с чистым сердцем. Да, с чистым сердцем, поручик, я понял это и потому ушел с поста. А что касается штаба, то спросите у Монтеверде, где его бригады. Я готов держать беспроигрышное пари: он вам не ответит. Это же гверилья, это же Фигнеры с Давыдовыми, а не армия! Управление утрачено или почти утрачено…
– Зачем вы нам все это говорите, полковник? – спросил Олексин. – С какой целью вы обрушили на нас ушат холодной воды? Ведь должна же быть у вас какая-то цель, кроме обиженного брюзжанья?
– Поручик, вы забываетесь! – Измайлов медленно багровел. – Я, кажется, не давал повода. Да! Я имею заслуги! Этот Таковский крест, – он ткнул пальцем в ленточку в петличке, – этот орден я получил одним из первых из рук князя Милана!
– Я не сомневаюсь в ваших заслугах, господин полковник. Я лишь спросил о цели вашего визита.
– А цель вашего приезда в Сербию? – Полковник встал, прошелся по номеру. – Боже вас упаси от изложения славянофильских идей, поручик, боже вас упаси: у меня уже болят уши. Мне жаль вас, юных идеалистов, цвет России: вами играют. Играют на вашем энтузиазме, на вашей молодости, на вашей отваге. Знайте же об этом, ибо ничего нет горше разочарования. Ничего нет горше!
Он пошел к выходу, но в дверях остановился, хотя никто не останавливал его. Потеребил шляпу, словно не решаясь, стоит ли говорить то, что хотелось. И – решился:
– Вы услышите много разговоров обо мне, поручик. Не торопитесь с выводами, пока не поговорите с генералом Черняевым.
– Вряд ли он примет меня.
– Добейтесь, это в ваших интересах. И если зайдет разговор обо мне… Впрочем, не надо.
– Нет, отчего же, полковник. Все может быть.
– Скажите ему, что я жду его письма. Здесь, в Белграде.
Измайлов поклонился и вышел. Захар усмехнулся:
– Обижен барин. А говорил красно.