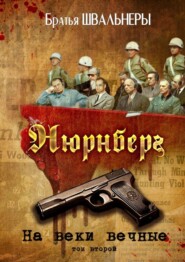По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
#1917: Человек из раньшего времени. Библиотека «Проекта 1917»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Прошу, ускорь встречу.
– Я подумаю, мне пора, – бросила она, освобождая длань из плена настойчивого студента.
– И что же? – спросила Лиза, когда они с Иваном Андреевичем уединились у камина.
– Что?
– Вы считаете Анатолия Федоровича законодателем общественного мнения, исходя только из того, что он выполнил свой профессиональный долг так как следует?
– Я считаю, что если каждый будет выполнять профессиональный долг именно как долг, а не как средство зарабатывания веса в общества и уж – упаси Бог – денег, то плачевную ситуацию, царящую в разных сферах общественной жизни, удастся изменить. Разумеется, если это будет возведено в ранг государственной политики!
– Что же должно произойти, чтобы государственная политика отклонилась от намеченного курса и последовала курсу Вашему?
– Ну, во всяком случае, ей следует отказаться от подобных вот «диктаторов сердца». – Иван Андреевич кивнул головой в сторону Лорис-Меликова, который упорно доказывал что-то одному из своих собеседников на глаза десятков гостей. Он был неприятен Бубецкому, и ему даже казалось сейчас, что он нарочито позирует перед собравшимися. «Шут», – подумал юный князь и незаметно для себя поморщился.
Меж тем по залу пронесся шепот. «Чайковский, Чайковский», – по отрывкам окончаний смогла разобрать Лиза. Это имя подействовало на нее магически – так, что она готова была даже прервать политическую дискуссию с диктатором своего сердца.
– Иван Андреевич… Там, кажется…
Незамеченным широкой публикой, в зале появился невысокий сухощавый человек с седой бородой и подчеркнуто стройный. Глаза его излучали грусть и одиночество – такие, какие обычно людям не свойственны и бывают только у людей, страдающих неизлечимым недугом. Присутствующий таким недугом страдал – его тяготило непонимание, презрение общества – нелюбовь, в общем, тех, кто, хоть и сам грешен с головы до пят, а грех другого возведет в религию. Лишь на редкие минуты мог он сломить это общественное сопротивление, когда завладевал умами и душами всех тех, кто корил его за личные качества несколько мгновений назад – когда садился за рояль и исполнял неслыханные по красоте вещи собственного сочинения. И в вещах этих, как и в походке, и во взгляде, и в голосе этого человека сквозила та неистребимая грусть, которую, в силу тяжелейшего давления и веса, можно было уже назвать обреченностью.
– Петр Ильич, с возвращением Вас, – сказала пожилая графиня, протягивая руку композитору. Завидев ее среди гостей, Чайковский улыбнулся. Они были давно знакомы – в Москве он когда-то снимал у нее комнату, еще, кажется, будучи студентом, и она притом была к нему чрезвычайно добра. Здесь это было, пожалуй, единственное лицо, которому композитор улыбался. Про остальных он не то, чтобы думал плохо или презрительно – его скорее тяготило, что они о нем думали, и потому предпочитал держаться от них на расстоянии.
– Благодарю, графиня. В Париже теперь не сезон – слякоть несусветная, так насквозь промокшим и простуженным вернулся я в наш холодный город. Хоть и ветра здесь почти тютчевские, и морозы, а все же роднее – и не скрываю своей надежды на выздоровление здесь.
– Непременно, непременно поправляйтесь. А как там Полина?
– Госпожа Виардо? Что ж в этом сезоне вернулась на сцену после почти пятилетнего перерыва – смерть любимого перенесла очень тяжело.
Присутствующие скорбно замолчали – всем здесь было известно, что французская певица испанского происхождения Полина Виардо-Гарсиа, супруга известного французского финансового аристократа, долго носила траур после смерти в 1883 году своего возлюбленного, русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Лиза три месяца назад по настоятельному требованию Ивана Андреича перечитала его «Вешние воды» и «Асю» и была поражена тому воздействию, что оказали на нее эти произведения – она впервые читала их года два назад, не будучи ни в кого влюбленной, и показались они ей чрезвычайно скучными и вообще малопонятными. Теперь же она была поражена той точностью, с какой автор описывает чувства, испытываемые совсем молодыми еще людьми, по отношению друг к другу. Закрывая книгу, она подумала тогда, что писать так может лишь человек, сам перманентно находящийся в состоянии влюбленности, самой живой и горячей.
– Меж тем, – продолжал Чайковский, – голос нимало не изменился, и очень порадовала меня своим исполнением некоторых моих работ.
– Когда же окончите «Моцартиану»?
– Здесь, увы, порадовать нечем – дел столько, да и Париж с его великосветскими настроениями и вылазками так отвлек от работы, – что раньше декабря и не чаю кончить.
Заслышав гостя, компанию вскоре разбавил и градоначальник.
– Петр Ильич, честь имею!
– Здравствуйте, Ваше Высокопревосходительство!
– Оказали-таки честь, вытянули мы Вас!
– Для меня Ваше суаре – как спасение из слякотного Парижа и ледяного Питера. Кажется, только здесь и согреюсь.
– Отчего же вина не пьете? Пейте, замечательное «Шато бель Эвек», прямиком из Франции.
– А я бы, ей-Богу, русской водочки не прочь!
– Как прикажете! Любезный…
Композитор опрокинул маленькую стопку – и глаза его заблестели, засветились излучаемой ими детской добротой.
– Порадуете нынче?
– И сам думал, и руки чешутся. А что сыграть – право, не знаю.
Здесь разномастная публика сошлась в едином мнении. Со всех концов зала послышалось: «Средь шумного бала… Средь шумного бала…»
Композитор сел за рояль – и вскоре из-под пальцев его полетели по всему залу, по всем комнатам, по всему дворцу чудные звуки, в объятиях которых даже самые жаркие споры и распри ненадолго утихли, а самые непримиримые враги умолкли и даже, казалось, ненадолго примирились. Графиня Белосельская-Белозерская пела под аккомпанемент автора, а весь мир замер и внимал музам говорящим:
Средь шумного бала, случайно,В тревоге мирской суеты,Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты
Лишь очи печально глядели,А голос так дивно звучал,Как звон отдалённой свирели,Как моря играющий вал
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,А смех твой, и грустный и звонкий,С тех пор в моём сердце звучит
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —Я вижу печальные очи,Я слышу весёлую речь
И грустно я так засыпаю,И в грёзах неведомых сплю…
Люблю ли тебя – я не знаю,Но кажется мне, что люблю!
…Лиза была преисполнена впечатлениями. И всю дорогу до дома, и после ночью, когда ворочалась в постели и долго не могла уснуть, вспоминала она черты диктатора своего сердца, ловила каждое услышанное сегодня слово, анализировала каждую увиденную деталь. Ей казалось, что за один вечер прожита добрая половина ее жизни, и радовало то, что это не так – и впереди еще долгие ее годы, наполненные красотой и любовью.
Глава вторая «Беседы»
Университет – эта alma mater своих питомцев – должен напитать их здоровым, чистым и укрепляющим молоком общих руководящих начал. В практической жизни, среди злободневных вопросов техники и практики, об этих началах придется им услышать уже редко. Отыскивать их и раздумывать о них в лихорадочной суете деловой жизни уже поздно. С ними, как с прочным вооружением, как с верным компасом, надо войти в жизнь. Когда человека обступят столь обычные низменные соблазны и стимулы действий: нажива, карьера, самодовольство удовлетворенного самолюбия и тоска неудовлетворенного тщеславия и т. п., когда на каждом шагу станут грозить мели, подводные камни и манить заводи со стоячею водою, тогда не будет уже времени да, пожалуй, и охоты запасаться таким стеснительным компасом.
А. Ф. Кони, русский юрист
– …Именно поэтому принцип презумпции невиновности является одним из основополагающих, базовых начал уголовного процесса. Отступление от него недопустимо ни по одной категории уголовных дел, ибо его реализация является основной гарантией соблюдения процессуальных прав обвиняемого. За сим позвольте кончить на сегодня. Всех благодарю!
Дружными аплодисментами проводил зал Анатолия Федоровича Кони. В этот час в Университете уже никого по обыкновению не было – учебные занятия давно окончились, и только некие радетельные студенты собрались на факультативное занятие к любимому своему профессору уголовного процесса. На улице было темно – конец февраля давал о себе знать, и только несколько окошек на втором этаже университетского корпуса светились в этот поздний час. Хотя не такой уж он был и поздний – было всего-навсего шесть часов. Иван Андреич следил за часами – скоро ему предстоял урок в доме Светлицких, и потому он немного спешил, но не мог полностью отказать себе в удовольствии послушать речь любимого профессора.
Как водится, после окончания лекции Бубецкой подошел к Анатолию Федоровичу.
– Профессор, Ваше сегодняшнее углубление в историю было просто изумительно, – взахлеб говорил прилежный студент. Кони одобрительно смотрел на него, временами смущенно улыбаясь и отводя глаза в сторону. – Однако меня интересует вопрос о Вашем отношении к делам террористов?
Кони посерьезнел.
– Для меня это такие же уголовные дела, как и все остальные. Почему Вы их так выделяете и что именно в судопроизводстве по ним Вас так интересует?
– Дело в том, что выделяю их не я, а скорее общественное мнение. Среди ряда ученых-криминалистов – именно по причине возросшего общественного вокруг них резонанса – бытует точка зрения о необходимости усеченного доказывания по данной категории дел, и, как следствие, отказа от действия презумпции невиновности…