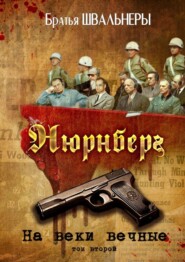По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гоголь. Главный чернокнижник империи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вий! – завопил Хома, и заметался внутри маленького кружочка, который только и делал, что сжимался вокруг несчастного казака. – Вий! – кричал он, словно взывая о помощи в абсолютно глухую и безлюдную ночь.
Всадник, влекомый зовом своего имени, проехал несколько шагов вглубь церкви, и протянул к Бруту свою дьявольски длинную руку. Кажется, даже круг не смог его остановить. Рука была все ближе, а дыхание смерти чувствовалось Хомой все отчетливее…
– Вий!
…Нашли тело Хомы под утро. Он лежал в кругу возле гроба, а волосы его покрылись сединой, словно был он не молодой казак, а изможденный жизнью старик. И только местные жители наперебой вспоминали, что последним его издыханием было сказано одно непонятное слово:
– Вий!..
Глава седьмая. Третье отделение
Александр Семенович Данилевский был приятелем Гоголя с незапамятных нежных детских лет, проведенных ими в родной и потому близкой их сердцу Украине. Почти уж тридцать лет тому как они учились вместе в Нежинской гимназии высших наук, где сошлись и познакомились так близко, как сходятся только лучшие друзья, родственные друг другу души. После, окончив ее с разницей в один год, не прекращая ни на день переписки, приехали в столицу и поступили в университет, по окончании которого близкий приятель матери Гоголя, знаменитый Фаддей Булгарин, устроил их обоих на службу в Третье отделение. Николаю Васильевичу эдакая «чернильная служба», как говорил герой его пьесы «Игроки», вскоре пришлась не по вкусу – беда состояла в том, что проведение следствий по делам было занимательным и увлекательным лишь до поры. Вскоре малоопытного следователя перевели на дела небольшой тяжести и небольшого же интереса, которые расследовались однотипно и тем самым, как ему казалось, только притупляли его живой и острый ум. В ту пору у Гоголя было сильно увлечение театром, он видел себя если не знаменитым актером, то лектором и профессором истории, и оттого предпочел оставить службу, отдавшись исканиям себя в других направлениях. Александр же Семенович продолжил службу в той же организации, мало подвергаясь воздействию света в той его ипостаси, которая отвечала за богемность, значимость и позерство.
Будучи разделенными по интересам, приятели продолжали поддерживать отношения, но уже все более прохладно и эпизодически – редкие письма, еще более редкие встречи случайно в том или ином обществе, и главное – отсутствие общих интересов, которые у Гоголя, в отличие от его однокашника, целиком сосредотачивались на искусстве и служении высокому, а у приятеля его – на служении низменному и земному, – никак не могли возродить былой теплоты. И, хоть по-прежнему чувствовали они нечто родственное в душах своих, а все же общение практически сошло на нет, оставив друзьям только одни воспоминания о том, как вместе увлекались, будучи школярами и студентами, театральной жизнью, искусством и даже выписывали вскладчину столичные журналы в далекий Киев, в Нежинскую гимназию.
Николай Васильевич тяжело переживал смерть сестры. Это известие, вкупе с тем гнетущим и тягостным впечатлением, что оставили у него «Мученики ада» после первого их посещения, словно бы подорвало и без того слабое здоровье писателя, и вернуло его в постель. Весна в столице была хоть и поздняя, а традиционно промозглая, что никак не способствовало его выздоровлению. Он лежал пластом, когда в комнату его в одно утро вошел Семен и принес записку от человека, о котором менее всего мог подумать Николай Васильевич и кого менее всего ожидал он услышать.
– Саша? Саша Данилевский? – негаданное заочное появление старого друга, казалось, взбодрило писателя и ненадолго вернуло к жизни. Он встал и заходил по комнате.
– Так точно, ваше благородие. Утром еще солдат из жандармерии принес.
В записке говорилось, что Данилевский хочет увидеть Гоголя по важному делу, что будет признателен его визиту на службу, поскольку совершенно не имеет времени для посещения в не служебное время и вечно будет обязан, если тот найдет время сходить к нему. Кляня Языкова за его задумку с этим идиотским обществом, наверняка по поводу участия в коем вызывают писателя в Третье отделение (а зачем же еще?), Гоголь все же не без воодушевления собрался и отправился на прием к старому другу, на прежнее место службы, с которым ассоциировались еще в голове его воспоминания молодости.
Данилевский не скрывал радости от встречи. Приятели обнялись и сразу разговорились о последних событиях в жизни Николая Васильевича, которая была куда более наполнена интересными деталями, нежели, чем жизнь рядового следователя полиции.
– Как ты? Я слышал, вернулся только что из Рима?
– Да, но не эта поездка была для меня главным событием последних дней. Ты ведь знаешь, Италия – моя давняя любовь, так что тут ничего нового. А вот Иерусалим…
– Ты и там успел побывать? Но когда?!
– Незадолго до этого. И не просто побывать, а даже отыскать там копье Лонгина и привезти его с собой. Правда, с собой я прихватил еще и малярию, которая мучает меня почитай уж целый месяц, но, думаю, посещение Гроба Господня стоит того, чтобы немного помучаться.
– На какие же мысли тебя навело твое путешествие?
– О, мыслей много. Очень. В основном все о христианской вере, о православии, о том, что жил неправильно, не те идеалы проповедовал…
– Ну вот! – всплеснул руками Данилевский. – Как ты можешь говорить эдакое? Разве твои «Мертвые души» и «Ревизор» не есть обличение, сатира пороков человеческих во всей их нечистоте?! А обличать еще, кажется, апостол Павел предписывал! Так кто же из нас более живет по Богу, чем ты?
– Дело не в этом. Я ведь лучше знаю, что руководило мной при написании этих вещей – не более, чем жажда славы. Она же в свое время увела меня из Третьего отделения…
– …и привела к большему! Верно ведь говорят, что стучащему откроется!
– Привела она меня к себялюбию высшего порядка. Как же, посмотрите, какой писатель! Как смело перо его, как новы темы! Он берется за то, за что прежде вовсе никто не брался, а все почему? Так ли он хочет усовершенствовать общество, в котором живет? Или же просто необычным изложением вполне обычных замечаний жизни старается привлечь к себе внимание? Как труды его способны изменить жизнь страны нашей? Никак, ровным счетом. Так зачем же он тогда пишет? Не иначе ради сияния светской жизни, к которой привык и которая так мила ему.
– Ну, полно себя стыдить, – улыбнулся Данилевский. – Если ты так рассуждаешь, то мне и таким, как я, вообще впору в петлю лезть.
– Не думаю. Беда вся в том, что ты на своем месте, а я нет. Взыщется, взыщется с меня за то, что мало оставляю в научение и назидание будущим поколениям. Значит, не в полной мере делаю я то, к чему обязывает и чего требует судьба писателя. А что ты? Ты на службе целиком и полностью отдаешься ей, и менять что-то – вне твоей юрисдикции. От тебя иное требуется, и ты справляешься, а вот, справляюсь ли я? Видишь ли, тебя может оценить хоть твое начальство, а меня, кроме потомков да Господа, и оценить некому. Оттого и страдаю я, не в силах разрешить противоречия между мыслью своей и реальной оценкой ее со стороны. Критиканы подливают масла в огонь, не понимая, что я сейчас воспринимаю любое слово в своей адрес как оголенный нерв…
– Понимаю, – погрустнел и посерьезнел Данилевский. – Сочувствую и соболезную по причине внезапной смерти сестры твоей, Александры Ивановны. Всегда обидно и особенно горько, когда уходят люди в таком молодом возрасте, да еще без видимых к тому причин…
– Ну почему же? У нее, кажется, была горячка. Мать писала мне об этом…
– Что ж, пришло время рассказать тебе, что именно по этой причине я тебя и пригласил. Видишь ли, мы получили письмом донесение от начальника тамошней полиции о том, что смерть ее была вызвана вовсе не горячкой, а иными причинами…
– Иными? Но какими?
– Говорят, будто бы ее сильно избили перед кончиной.
– Но кто?
– Не сообщается. Начальнику полиции донесли, а одно только донесение к делу не пришьешь, нужно провести следствие.
– Ну и что же мешает местному отделению провести расследование? Почему он вам об этом пишет? Мало разве дел в Третьем отделении?
– Вот, – довольно улыбнулся Данилевский, встал со стула и начал ходить по кабинету как тигр в клетке. Так всегда бывало, когда находил он что-нибудь необычное и интересное в своей, кажущейся повседневной, работе. – В том-то и дело, что мешает ее отец, это раз…
– А, старый Яновский. Что ж, это вполне в духе его строптивого нрава и общей жестокости и нетерпимости к людям.
– Но это бы еще полбеды. После смерти ее случилось нечто, что никак не может оставить нас в стороне от случившейся трагедии. Видишь ли, согласно ее последней воле, сообщенной отцу устно накануне кончины бедняжки, она завещала читать отходные по ней некоему бурсаку Хоме Бруту, что был крепостным у Яновского.
– Бруту??? – Гоголя сказанное Данилевским потрясло до глубины души. Он поймал себя снова на нехристианской и эгоистической мысли о том, что все же мысли ее больше были адресованы холопу, а не ему, который не только больше понимает в Библии и христианском вероучении, но и открыл ей саму суть Священного Писания, о котором прежде она судила по одним только детским картинкам. Эту мысль он осек и тут же постарался от себя отогнать, но без толку.
– Именно ему. Причина такого выбора непонятна – ни митрополит, ни монах, даже не чернец, а всего лишь какой-то бурсак. И все же настрого наказал ему Иван Афанасьев читать по ней отходные все три дня. Вернее, три ночи. Тот отчитал. А после, наутро четвертого дня, был найден в церкви мертвым…
Последние слова буквально ошарашили Гоголя. Если до настоящего момента он и мог считать свое видение в Английском проспекте, где была штаб-квартира «Мучеников ада», и последовавшую за этим смерть Александры случайными совпадениями, то выбор Хомы и, тем более, его смерть, никак не вписывались в представления о случайности. Не в силах отыскать связующую нить между этими трагическими событиями, но уже всерьез заинтересовавшись ее поиском, автор «Майской ночи, или Утопленницы» почувствовал вдруг жжение внизу живота – так бывало всегда, когда нечто необычное и интересное случалось с ним. Умом он так же понял, что негоже испытывать подобное мирское и грешное любопытство к столь сакраментальным вещам, но остановиться уже не мог.
– И как же причина смерти?
– И снова загвоздка и тут. Видишь ли, была у твоей сестры еще одна последняя воля, так же в точности исполненная ее отцом – захоронить ее и Хому в одной могиле.
– Как – в одной? Обычно так хоронят членов семьи, родственников, супругов. Зачем класть в одну могилу представительницу знатного рода и крепостного?
– По слухам, Иван считает, что между покойными были некие отношения, скажем так, выше дружеских. И потом – что такое одна могила? Кенотаф, традиция. Не в одном же гробу! Так что, в принципе, ничего сложного тут нет, но беда состоит в том, что похоронили его до врачебного осмотра и вообще с рекордной скоростью – чуть ли не в день смерти, одновременно с похоронами Александры Ивановны, и потому установить причину смерти нет никакой возможности.
– А как же эксгумация?
– Это возможно только с согласия родственников. У Хомы таковых не было, а Иван, по непонятной нам причине, категорически против этого возражает. Я бы понял еще его несогласие с установлением истины по делу, будь он человек верующий и ссылающийся в этой связи на позицию церкви. Но ведь он, как говорят, ни в Бога, ни в черта не верит! И все равно возражает!
– Любопытно. И что же ты думаешь делать в этой связи?
– По совести говоря, надо туда выехать. Но поездка не принесет никакого толку, если эксгумировать тела Хомы и Александры не удастся. Точно так же, как и местный полицмейстер, мы ограничимся сбором слухов, и возвратимся оттуда не солоно хлебавши.
– Ты предлагаешь мне уговорить Ивана Яновского? Думаю, это бесполезно. Я – не вполне подходящая для этого кандидатура. Он, кажется, считает меня несколько чудаковатым, да и вообще…
– Нет, мне потребуется от тебя несколько иная помощь.
– Но какая?