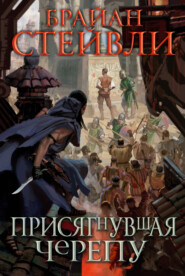По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последние узы смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До ближайшей клетки было несколько десятков шагов, подслушать невозможно, и все же Каден невольно оглянулся через плечо. Другие заключенные, если бы и уловили их разговор, вряд ли бы поняли, а если бы поняли – вряд ли поверили бы в богиню, заключенную в теле молодой пленницы. С другой стороны, разоблачение могло обернуться катастрофой. Каден понизил голос:
– Сьена – твоя богиня, Тристе. Не моя. Потому она тебя и избрала.
Девушка ответила пристальным взглядом:
– Ты ради нее приходишь. Поболтать с ней, опоив меня до беспамятства?
Каден покачал головой и спросил:
– Она молчит? Ни разу не… появлялась с того раза в Журавле, когда ты резала себе живот?
Тристе впервые подняла руку – пошарила перед собой, как шарят слепые – будто пробуя на ощупь старую рану.
– Надо было тогда и кончать, – тихо, но твердо выговорила она наконец.
Каден молча смотрел на нее. Казалось, целая жизнь миновала с тех пор, как Тарик Адив с сотней эдолийцев явился в горный Ашк-лан с известием о смерти императора на языке – и с Тристе. Тогда она была девочкой. Теперь уже не была.
Он знал ее неполный год, но за этот год для нее не прошло ни дня без боя или бегства, без тесной камеры или криков под ножами ишшин. Ни единого дня. Кадена выпавшая на его долю борьба измучила и закалила, а ведь она была ничто в сравнении с ее борьбой. Каден не сомневался: сейчас перед ним сидела не простодушная дочь лейны, захваченная течением, в котором ей не по силам ни выплыть, ни отвернуть к берегу. А вот чем она стала, во что превратили ее боль и страх, во что она сама себя превратила… этого Каден не знал.
– Если бы ты не остановила нож, то убила бы не только себя, но и богиню. Ты бы прервала ее связь с миром. Ты бы отрезала нашу способность чувствовать удовольствие, радость.
– Это если верить твоему кшештрим, – сплюнула Тристе. – Он и мне скармливал эту сказку.
– Я не ограничился словами Киля, – покачал головой Каден. – Далеко не ограничился. В Рассветном дворце хранится самое полное в мире собрание летописей – и человеческих, и кшештримских. Каждую свободную от препирательств с советом минуту я проводил в библиотеке. Все, что я читал, подтверждает рассказ Киля – и об истории богов, и о войнах с кшештрим.
– Думаю, он хотел меня убить, – сказала Тристе. – Это ведь единственный способ освободить его богиню?
– Она – твоя богиня, – повторил Каден.
– Нет, больше не моя. С тех пор, как насильно влезла мне в голову.
– Она избрала тебя, – возразил Каден, – за твою преданность.
– Это наверняка неправда. В храме много десятков лейн, с их искусством в служении Сьене мне никогда не сравниться, и они всецело преданы своей богине. – Тристе поморщилась. – А я… никто. Побочный отпрыск какого-то министра.
– У Тарика Адива были огненные глаза, – напомнил Каден. – Твой отец пусть в дальнем, но в родстве с моим. Значит, и ты тоже потомок Интарры.
Он сам удивился этой мысли. Сотни лет Малкенианы основывали свое право на власть на этих глазах, на божественном происхождении династии. Разветвление фамильного древа могло привести к гражданской войне, к гибели Аннура.
Тристе помотала головой:
– Не сходится.
– Вполне сходится, – настаивал Каден. – Только так и сходится. Легенда гласит, что Интарра выносила первого Малкениана тысячу лет назад. Семья должна была разрастись. Моя ветвь не может быть единственной.
– У меня не такие глаза, – возразила она.
– У Валина тоже.
Тристе оскалила зубы:
– Даже будь это правдой, что с того? Чего она стоит? Какое отношение имеет к засевшей у меня под черепом суке?
Каден только головой покачал. Даже Киль знал не все. Даже кшештрим не мог проникнуть в мысли богов.
– Мы знаем не все, – тихо ответил он. – Я знаю не все.
– И тем не менее хочешь меня убить.
В ее словах больше не было гнева. Что-то погасило его быстро и уверенно, как задувают свечу. У Тристе словно разом кончились силы. Каден и сам вымотался – изнемогал от долгого подъема и от страха, что кто-то прорвался в темницу, отыскал Тристе, причинил ей зло.
– Нет, – тихо проговорил он, не найдя другого слова, чтобы высказать свою тревогу.
Хин, на беду, совсем не научили его, как люди утешают друг друга. Если бы мог, он бы молча опустил ладонь ей на плечо, но сквозь решетку было не дотянуться. Остался лишь этот короткий слог, и он беспомощно повторил его:
– Нет.
– Прости, – ответила она. – Я оговорилась. Ты хочешь, чтобы я убила себя.
– Обвиате – не самоубийство. Это обряд. Ритуал. Без него богиня не сможет освободиться. Не сможет вознестись. – Он помолчал. – И это не то, чего я хочу.
– Не сможет вознестись, – повторила Тристе, словно не услышав его последних слов. – Не сможет вознестись!
Она вдруг расхохоталась звонко, как колокольчик, – и сразу замолкла.
– Что смешного?
Тристе покачала головой, указала на прутья решетки:
– Мне бы ее заботы! Что там – «вознестись», я бы счастлива была на одну ночь выбраться из этой клетки.
Они оба помолчали.
– Она… с тобой говорила? – спросил наконец Каден.
– Откуда мне знать? Каждый раз, как она берет верх, я ничего не помню. – Тристе устремила на Кадена жесткий, не допускающий возражений взгляд. – Откуда мне знать, может, вы все это выдумали про богиню. Может, я просто сумасшедшая.
– Ты же видела, что было в Жасминовом дворе, – серьезно сказал Каден. – Что ты наделала. Что сотворила через тебя Сьена.
Тристе протяжно, прерывисто вздохнула, открыла рот для ответа, но тут же отвернулась. Память о бойне – изуродованные тела, разбитые черепа – встала между ними невидимо и неумолимо.
– Я не согласна, – сказала она. – На твой ритуал.
– Это не мой ритуал, и я не уговаривать тебя пришел.
– Но ты этого хочешь. – Она не смотрела на него. – Надеешься – или что там заменяет надежду вам, монахам, – что я соглашусь, поддамся. Ну а я не хочу. Придется тебе ее из меня вырезать.
– Так нельзя, – покачал головой Каден. – Я ведь уже объяснял. Обвиате, если бы мы на него пошли, по-видимому, требует твоего согласия, твоего участия.
– Сьена – твоя богиня, Тристе. Не моя. Потому она тебя и избрала.
Девушка ответила пристальным взглядом:
– Ты ради нее приходишь. Поболтать с ней, опоив меня до беспамятства?
Каден покачал головой и спросил:
– Она молчит? Ни разу не… появлялась с того раза в Журавле, когда ты резала себе живот?
Тристе впервые подняла руку – пошарила перед собой, как шарят слепые – будто пробуя на ощупь старую рану.
– Надо было тогда и кончать, – тихо, но твердо выговорила она наконец.
Каден молча смотрел на нее. Казалось, целая жизнь миновала с тех пор, как Тарик Адив с сотней эдолийцев явился в горный Ашк-лан с известием о смерти императора на языке – и с Тристе. Тогда она была девочкой. Теперь уже не была.
Он знал ее неполный год, но за этот год для нее не прошло ни дня без боя или бегства, без тесной камеры или криков под ножами ишшин. Ни единого дня. Кадена выпавшая на его долю борьба измучила и закалила, а ведь она была ничто в сравнении с ее борьбой. Каден не сомневался: сейчас перед ним сидела не простодушная дочь лейны, захваченная течением, в котором ей не по силам ни выплыть, ни отвернуть к берегу. А вот чем она стала, во что превратили ее боль и страх, во что она сама себя превратила… этого Каден не знал.
– Если бы ты не остановила нож, то убила бы не только себя, но и богиню. Ты бы прервала ее связь с миром. Ты бы отрезала нашу способность чувствовать удовольствие, радость.
– Это если верить твоему кшештрим, – сплюнула Тристе. – Он и мне скармливал эту сказку.
– Я не ограничился словами Киля, – покачал головой Каден. – Далеко не ограничился. В Рассветном дворце хранится самое полное в мире собрание летописей – и человеческих, и кшештримских. Каждую свободную от препирательств с советом минуту я проводил в библиотеке. Все, что я читал, подтверждает рассказ Киля – и об истории богов, и о войнах с кшештрим.
– Думаю, он хотел меня убить, – сказала Тристе. – Это ведь единственный способ освободить его богиню?
– Она – твоя богиня, – повторил Каден.
– Нет, больше не моя. С тех пор, как насильно влезла мне в голову.
– Она избрала тебя, – возразил Каден, – за твою преданность.
– Это наверняка неправда. В храме много десятков лейн, с их искусством в служении Сьене мне никогда не сравниться, и они всецело преданы своей богине. – Тристе поморщилась. – А я… никто. Побочный отпрыск какого-то министра.
– У Тарика Адива были огненные глаза, – напомнил Каден. – Твой отец пусть в дальнем, но в родстве с моим. Значит, и ты тоже потомок Интарры.
Он сам удивился этой мысли. Сотни лет Малкенианы основывали свое право на власть на этих глазах, на божественном происхождении династии. Разветвление фамильного древа могло привести к гражданской войне, к гибели Аннура.
Тристе помотала головой:
– Не сходится.
– Вполне сходится, – настаивал Каден. – Только так и сходится. Легенда гласит, что Интарра выносила первого Малкениана тысячу лет назад. Семья должна была разрастись. Моя ветвь не может быть единственной.
– У меня не такие глаза, – возразила она.
– У Валина тоже.
Тристе оскалила зубы:
– Даже будь это правдой, что с того? Чего она стоит? Какое отношение имеет к засевшей у меня под черепом суке?
Каден только головой покачал. Даже Киль знал не все. Даже кшештрим не мог проникнуть в мысли богов.
– Мы знаем не все, – тихо ответил он. – Я знаю не все.
– И тем не менее хочешь меня убить.
В ее словах больше не было гнева. Что-то погасило его быстро и уверенно, как задувают свечу. У Тристе словно разом кончились силы. Каден и сам вымотался – изнемогал от долгого подъема и от страха, что кто-то прорвался в темницу, отыскал Тристе, причинил ей зло.
– Нет, – тихо проговорил он, не найдя другого слова, чтобы высказать свою тревогу.
Хин, на беду, совсем не научили его, как люди утешают друг друга. Если бы мог, он бы молча опустил ладонь ей на плечо, но сквозь решетку было не дотянуться. Остался лишь этот короткий слог, и он беспомощно повторил его:
– Нет.
– Прости, – ответила она. – Я оговорилась. Ты хочешь, чтобы я убила себя.
– Обвиате – не самоубийство. Это обряд. Ритуал. Без него богиня не сможет освободиться. Не сможет вознестись. – Он помолчал. – И это не то, чего я хочу.
– Не сможет вознестись, – повторила Тристе, словно не услышав его последних слов. – Не сможет вознестись!
Она вдруг расхохоталась звонко, как колокольчик, – и сразу замолкла.
– Что смешного?
Тристе покачала головой, указала на прутья решетки:
– Мне бы ее заботы! Что там – «вознестись», я бы счастлива была на одну ночь выбраться из этой клетки.
Они оба помолчали.
– Она… с тобой говорила? – спросил наконец Каден.
– Откуда мне знать? Каждый раз, как она берет верх, я ничего не помню. – Тристе устремила на Кадена жесткий, не допускающий возражений взгляд. – Откуда мне знать, может, вы все это выдумали про богиню. Может, я просто сумасшедшая.
– Ты же видела, что было в Жасминовом дворе, – серьезно сказал Каден. – Что ты наделала. Что сотворила через тебя Сьена.
Тристе протяжно, прерывисто вздохнула, открыла рот для ответа, но тут же отвернулась. Память о бойне – изуродованные тела, разбитые черепа – встала между ними невидимо и неумолимо.
– Я не согласна, – сказала она. – На твой ритуал.
– Это не мой ритуал, и я не уговаривать тебя пришел.
– Но ты этого хочешь. – Она не смотрела на него. – Надеешься – или что там заменяет надежду вам, монахам, – что я соглашусь, поддамся. Ну а я не хочу. Придется тебе ее из меня вырезать.
– Так нельзя, – покачал головой Каден. – Я ведь уже объяснял. Обвиате, если бы мы на него пошли, по-видимому, требует твоего согласия, твоего участия.