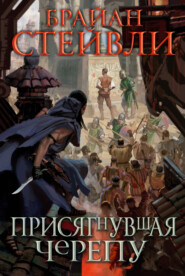По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Огненная кровь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Покажи, – сказал он.
– Мы поднимаемся наверх, – распорядился Валин. – Хочу установить периметр до полной темноты.
Тан повернулся к нему:
– Так устанавливай. А девушка пойдет со мной.
Валин прикусил язык. Монах не входил в его крыло и ему не подчинялся. Можно было настаивать, но Рампури Тан не из тех, кто уступает давлению, а каждая минута, потерянная в споре, увеличивала их уязвимость. Кроме того, от монаха исходило чувство опасности – что-то такое было в его манере держать необычное копье и в холодной невозмутимости взгляда. Валин полагал, что, дойди до драки, сумеет его убить, однако проверять это не хотелось, да и причин не было.
– Ладно, – отрезал он. – Я вас прикрою. Только быстро.
Они нашли надпись там, куда указала Тристе. Слова, рябые от щербин, наполовину скрывал лишайник. Валин прищурился, пытаясь разобрать буквы, и понял, что язык ему незнаком. На Островах учили много языков, но эти значки казались чужими: резкие, угловатые – такие удобно вырубать резцом, а не выводить кистью. Вздернув бровь, он обратился к Тристе:
– Можешь прочитать?
– По-моему, да.
– Что там написано? – требовательно спросил Тан.
Она стояла в глубокой тени, разглядывая притолоку и вздрагивая от внезапно подступившего ночного холода. Валин уже ждал, что девушка признается в непонимании языка, но она, поначалу запинаясь, заговорила на удивление певучим, музыкальным голосом:
– Йентайн, на си-йентанин. На си-андреллин, эйран.
Звучало это так же странно, как выглядели выбитые в камне знаки, и Валин обернулся к Тану. Лицо монаха по-прежнему ничего не выражало. Познакомившись с хин, Валин начал понимать, как много значили для него чуть заметные проявления человеческих чувств. Прищур глаз, побелевшие костяшки пальцев, напряженные плечи – все это он умел читать, различая знаки воинственных намерений, покорности, гнева или спокойствия. А монахи, особенно Тан, были для него словно белые листы, вычищенный палимпсест, хранящий абсолютную пустоту.
– Что это означает? – спросил Валин, главным образом чтобы разбить хрупкое молчание.
Тристе сдвинула брови и почти без запинки перевела:
– Дом для тех, у кого нет дома. Не имеющим семьи – любовь.
Пока они разговаривали, подошла Пирр и, поджав губы, оглядела надпись:
– Не проще ли было выдолбить просто: «Приют»? А еще лучше: «Дети».
– На каком это языке? – спросил Валин.
Тристе замялась, покачала головой.
– На кшештримском, – не дождавшись ее ответа, заговорил Тан. – Точнее сказать, на этом наречии кшештрим общались с первыми людьми.
Валин поднял бровь:
– Жрицы Сьены читают на кшештримском?
Тристе прикусила губу:
– Я не… да, наверное. Нас учили многим языкам. Мужчины бывали… отовсюду. Со всего света.
– То есть ты его выучила на случай, если придется ублаготворять кшештрим? – уточнила Пирр. – Я в восхищении.
– Я не лейна, – ответила ей Тристе. – Я не проходила посвящения…
Она осеклась, а надпись теперь разглядывала, словно ядовитую змею.
– Ну и ладно, – сказал, помолчав, Валин. – Учить языки всегда интересно.
Он пробежался взглядом по всей стене, и волоски на предплечьях встали дыбом: на дальнем краю уступа, в ста шагах от него, в черном проеме что-то мелькнуло. Ни света, ни звука – просто что-то беззвучно шевельнулось в темноте и исчезло так быстро, что он усомнился, не обманывает ли его зрение. Это могло быть что угодно: занесенный ветром листок, надутая полоска ткани. Нет там никакой ткани, вспомнил он. Гвенна с Анник заверили: все сгнило, кроме твердых предметов. Остались одни кости.
В Костистых горах водились звери: скалистые львы, медведи и множество мелких и не столь опасных животных. Кто-то мог устроить логово в скалах. Или увязаться за ними. В любом случае они беззащитны здесь, перед входом в приют, освещенные собственным фонарем. Бросаться на тени – верный способ промахнуться, но вот стоять на открытом месте…
– Все наверх, – приказал он. – Лейт, Гвенна, проверьте первый этаж. Талал и Анник – верхние. Гвенна, раскидай вокруг свои штучки.
Он еще раз оглянулся через плечо туда, где заметил промельк: ничего. Неподвижная тихая ночь.
– Живо! – рявкнул Валин, повернувшись к своим.
5
Адер чуть не все утро просидела под мостом, скукожившись, прижавшись к каменной облицовке и стуча зубами на свежем весеннем ветру. Она вся дрожала под промокшим сукном, и влажные волосы, сколько она их ни выкручивала, холодили загривок. На солнце высохла бы скорее, но, пока не высохнет, надо скрываться в тени. Промокшую женщину на улице непременно заметят, а Фултон с Бирчем станут всех расспрашивать – нельзя, чтобы ее кто-то запомнил.
Ожидание было хуже холода. Каждая новая минута – в плюс эдолийцам на организацию погони, уходить от которой она не была готова. Сколько будет сохнуть платье? Она представления не имела. Всю жизнь каждое утро рабыня приносила ей свежевыстиранную одежду, она же каждый вечер забирала грязную. Адер не знала, не придется ли ей весь день трястись под мостом.
Она закусила губу. Выбора нет. К ночи эдолийцы будут прочесывать оба берега Желобка, начиная с места, откуда она спрыгнула, и под мостами посмотрят. К ночи надо уйти далеко, еще лучше – к полудню, а одежда, сколько ни торопи, быстрее не высохнет. Дрожа и ежась, Адер пыталась обдумать план на ближайшие несколько часов, предусмотреть трудности и слабые места.
Трудности были очевидны. Первым делом надо сообразить, как добраться до дороги Богов неизбитой, неограбленной и неизнасилованной. Она рискнула одним глазком выглянуть из-под моста. Далеко ли унес ее поток, пока она пыталась выкарабкаться на берег, Адер не знала, но покосившиеся стены, узкие улочки, вонь отбросов и несвежей еды подсказывали, что она попала в городские трущобы, возможно даже в Ароматный квартал. Где-то рядом громко переругивались мужчина и женщина: она пронзительно взвизгивала, он грозно рычал. В стену ударилось что-то тяжелое, разлетелось вдребезги, и голоса смолкли. Еще ближе лаяла собака, никак не хотела угомониться.
Онемевшими пальцами Адер вытянула из кармана лоскут муслина. Повязала вокруг головы. В густой тени моста ей мало что было видно – разве что собственную руку перед носом и отражение солнца в воде (там, где струя не успела нырнуть под каменную арку), а еще смутные очертания подгнивших опор. Она знала, что видно сквозь повязку будет плохо, но, помнится, когда испытывала ее в своих покоях, такой слепой не была. Повозившись немного, примерив тряпку и так и этак, она в конце концов вовсе ее сорвала, распутала узел и начала все заново.
Если повязка сползет, ей конец. Если развяжется, ей конец. Тени домов сдвигались вдоль канала, а она все сражалась с тряпицей, перевязывая снова и снова, пока не нашла единственно возможный способ. Не слишком хорошо, но жить можно. Придется. Она осторожно потрогала платье: влажное, но уже ни капли не выжмешь. Грань между осторожностью и трусостью уловить трудно, но Адер чувствовала, что приближается к ней.
– Вставай, – тихо велела она себе. – Вылезай. Пора уже.
Адер высунулась из-под моста: никого. Она с облегчением перевела дыхание, разобрав только двух женщин шагах в двадцати вверх по улице: одна волокла увесистую бадью, другая сгибалась под тяжестью бесформенного мешка на плече. Адер обрадовалась: на ярком солнце сквозь ткань повязки она смогла разглядеть, хоть и смутно, что это именно женщины. Желобок унес ее на запад, значит храм Света лежит где-то севернее. Адер еще разок осмотрела себя, помедлила и вышла из-под моста.
Вокруг Рассветного дворца все улицы были вымощены камнем. Одни, как дорога Богов, – большими известняковыми плитами величиной с повозку, которые заменяли каждые двадцать лет, когда колеса и потоки воды вымывали в них глубокие колеи. Другие, попроще, мостили кирпичом или булыжником, а по сторонам тянулись открытые сточные канавы. Но никогда еще Адер не ступала по улице вовсе без мостовой, без труб или канавок для отвода стоков, и теперь, когда нога по щиколотку утонула в грязи, принцесса похолодела от ужаса. Оставалось надеяться, что это просто грязь, хотя зловоние намекало на кое-что похуже.
Она выдернула ногу. А потом сжала зубы и опасливо шагнула, выбирая кочки повыше и потверже, сторонясь рытвин и колеи. Идти пришлось медленно, но все же она умудрилась не оставить в грязи башмаков и понемногу продвигаться в ту сторону, где с отчаянной надеждой угадывала север, – пока смешок за спиной не заставил ее обернуться.
– Чё, боимся башмачки изгваздать?
Пока она смотрела под ноги, выбирая дорогу, и подтягивала подол платья, чтобы не измазать в лужах, к ней пристали двое парней. Эти шлепали по грязи босиком и думать не думали о брызгах на штанинах. Один небрежно держал на плече багор, другой нес простую корзину. Канальные крысы, сообразила Адер.
Кое-кому удавалось прожить, хоть и скудно, торча на мостах и вылавливая из воды проплывавший мусор. Адер выросла на рассказах об Эммиле Короле Нищих, якобы выловившем из воды сундук жемчуга и ставшем первым богачом Аннура. Этим двоим не так посчастливилось. Корзина была пуста и, судя по впалым мальчишеским щекам, пустовала давно. Юнец с багром ткнул в Адер пальцем. У него были короткие волосы и острая мордочка хорька. И ехидная улыбочка. У Адер свело живот.
– Говорю, чё, боишься башмачки замарать? – Он запнулся, только сейчас заметив повязку. – Чё это у тебя с глазками?
Не зазубри она ответ, повторяя его сотни раз, так и застыла бы с разинутым ртом. А теперь сумел выдавить:
– Мы поднимаемся наверх, – распорядился Валин. – Хочу установить периметр до полной темноты.
Тан повернулся к нему:
– Так устанавливай. А девушка пойдет со мной.
Валин прикусил язык. Монах не входил в его крыло и ему не подчинялся. Можно было настаивать, но Рампури Тан не из тех, кто уступает давлению, а каждая минута, потерянная в споре, увеличивала их уязвимость. Кроме того, от монаха исходило чувство опасности – что-то такое было в его манере держать необычное копье и в холодной невозмутимости взгляда. Валин полагал, что, дойди до драки, сумеет его убить, однако проверять это не хотелось, да и причин не было.
– Ладно, – отрезал он. – Я вас прикрою. Только быстро.
Они нашли надпись там, куда указала Тристе. Слова, рябые от щербин, наполовину скрывал лишайник. Валин прищурился, пытаясь разобрать буквы, и понял, что язык ему незнаком. На Островах учили много языков, но эти значки казались чужими: резкие, угловатые – такие удобно вырубать резцом, а не выводить кистью. Вздернув бровь, он обратился к Тристе:
– Можешь прочитать?
– По-моему, да.
– Что там написано? – требовательно спросил Тан.
Она стояла в глубокой тени, разглядывая притолоку и вздрагивая от внезапно подступившего ночного холода. Валин уже ждал, что девушка признается в непонимании языка, но она, поначалу запинаясь, заговорила на удивление певучим, музыкальным голосом:
– Йентайн, на си-йентанин. На си-андреллин, эйран.
Звучало это так же странно, как выглядели выбитые в камне знаки, и Валин обернулся к Тану. Лицо монаха по-прежнему ничего не выражало. Познакомившись с хин, Валин начал понимать, как много значили для него чуть заметные проявления человеческих чувств. Прищур глаз, побелевшие костяшки пальцев, напряженные плечи – все это он умел читать, различая знаки воинственных намерений, покорности, гнева или спокойствия. А монахи, особенно Тан, были для него словно белые листы, вычищенный палимпсест, хранящий абсолютную пустоту.
– Что это означает? – спросил Валин, главным образом чтобы разбить хрупкое молчание.
Тристе сдвинула брови и почти без запинки перевела:
– Дом для тех, у кого нет дома. Не имеющим семьи – любовь.
Пока они разговаривали, подошла Пирр и, поджав губы, оглядела надпись:
– Не проще ли было выдолбить просто: «Приют»? А еще лучше: «Дети».
– На каком это языке? – спросил Валин.
Тристе замялась, покачала головой.
– На кшештримском, – не дождавшись ее ответа, заговорил Тан. – Точнее сказать, на этом наречии кшештрим общались с первыми людьми.
Валин поднял бровь:
– Жрицы Сьены читают на кшештримском?
Тристе прикусила губу:
– Я не… да, наверное. Нас учили многим языкам. Мужчины бывали… отовсюду. Со всего света.
– То есть ты его выучила на случай, если придется ублаготворять кшештрим? – уточнила Пирр. – Я в восхищении.
– Я не лейна, – ответила ей Тристе. – Я не проходила посвящения…
Она осеклась, а надпись теперь разглядывала, словно ядовитую змею.
– Ну и ладно, – сказал, помолчав, Валин. – Учить языки всегда интересно.
Он пробежался взглядом по всей стене, и волоски на предплечьях встали дыбом: на дальнем краю уступа, в ста шагах от него, в черном проеме что-то мелькнуло. Ни света, ни звука – просто что-то беззвучно шевельнулось в темноте и исчезло так быстро, что он усомнился, не обманывает ли его зрение. Это могло быть что угодно: занесенный ветром листок, надутая полоска ткани. Нет там никакой ткани, вспомнил он. Гвенна с Анник заверили: все сгнило, кроме твердых предметов. Остались одни кости.
В Костистых горах водились звери: скалистые львы, медведи и множество мелких и не столь опасных животных. Кто-то мог устроить логово в скалах. Или увязаться за ними. В любом случае они беззащитны здесь, перед входом в приют, освещенные собственным фонарем. Бросаться на тени – верный способ промахнуться, но вот стоять на открытом месте…
– Все наверх, – приказал он. – Лейт, Гвенна, проверьте первый этаж. Талал и Анник – верхние. Гвенна, раскидай вокруг свои штучки.
Он еще раз оглянулся через плечо туда, где заметил промельк: ничего. Неподвижная тихая ночь.
– Живо! – рявкнул Валин, повернувшись к своим.
5
Адер чуть не все утро просидела под мостом, скукожившись, прижавшись к каменной облицовке и стуча зубами на свежем весеннем ветру. Она вся дрожала под промокшим сукном, и влажные волосы, сколько она их ни выкручивала, холодили загривок. На солнце высохла бы скорее, но, пока не высохнет, надо скрываться в тени. Промокшую женщину на улице непременно заметят, а Фултон с Бирчем станут всех расспрашивать – нельзя, чтобы ее кто-то запомнил.
Ожидание было хуже холода. Каждая новая минута – в плюс эдолийцам на организацию погони, уходить от которой она не была готова. Сколько будет сохнуть платье? Она представления не имела. Всю жизнь каждое утро рабыня приносила ей свежевыстиранную одежду, она же каждый вечер забирала грязную. Адер не знала, не придется ли ей весь день трястись под мостом.
Она закусила губу. Выбора нет. К ночи эдолийцы будут прочесывать оба берега Желобка, начиная с места, откуда она спрыгнула, и под мостами посмотрят. К ночи надо уйти далеко, еще лучше – к полудню, а одежда, сколько ни торопи, быстрее не высохнет. Дрожа и ежась, Адер пыталась обдумать план на ближайшие несколько часов, предусмотреть трудности и слабые места.
Трудности были очевидны. Первым делом надо сообразить, как добраться до дороги Богов неизбитой, неограбленной и неизнасилованной. Она рискнула одним глазком выглянуть из-под моста. Далеко ли унес ее поток, пока она пыталась выкарабкаться на берег, Адер не знала, но покосившиеся стены, узкие улочки, вонь отбросов и несвежей еды подсказывали, что она попала в городские трущобы, возможно даже в Ароматный квартал. Где-то рядом громко переругивались мужчина и женщина: она пронзительно взвизгивала, он грозно рычал. В стену ударилось что-то тяжелое, разлетелось вдребезги, и голоса смолкли. Еще ближе лаяла собака, никак не хотела угомониться.
Онемевшими пальцами Адер вытянула из кармана лоскут муслина. Повязала вокруг головы. В густой тени моста ей мало что было видно – разве что собственную руку перед носом и отражение солнца в воде (там, где струя не успела нырнуть под каменную арку), а еще смутные очертания подгнивших опор. Она знала, что видно сквозь повязку будет плохо, но, помнится, когда испытывала ее в своих покоях, такой слепой не была. Повозившись немного, примерив тряпку и так и этак, она в конце концов вовсе ее сорвала, распутала узел и начала все заново.
Если повязка сползет, ей конец. Если развяжется, ей конец. Тени домов сдвигались вдоль канала, а она все сражалась с тряпицей, перевязывая снова и снова, пока не нашла единственно возможный способ. Не слишком хорошо, но жить можно. Придется. Она осторожно потрогала платье: влажное, но уже ни капли не выжмешь. Грань между осторожностью и трусостью уловить трудно, но Адер чувствовала, что приближается к ней.
– Вставай, – тихо велела она себе. – Вылезай. Пора уже.
Адер высунулась из-под моста: никого. Она с облегчением перевела дыхание, разобрав только двух женщин шагах в двадцати вверх по улице: одна волокла увесистую бадью, другая сгибалась под тяжестью бесформенного мешка на плече. Адер обрадовалась: на ярком солнце сквозь ткань повязки она смогла разглядеть, хоть и смутно, что это именно женщины. Желобок унес ее на запад, значит храм Света лежит где-то севернее. Адер еще разок осмотрела себя, помедлила и вышла из-под моста.
Вокруг Рассветного дворца все улицы были вымощены камнем. Одни, как дорога Богов, – большими известняковыми плитами величиной с повозку, которые заменяли каждые двадцать лет, когда колеса и потоки воды вымывали в них глубокие колеи. Другие, попроще, мостили кирпичом или булыжником, а по сторонам тянулись открытые сточные канавы. Но никогда еще Адер не ступала по улице вовсе без мостовой, без труб или канавок для отвода стоков, и теперь, когда нога по щиколотку утонула в грязи, принцесса похолодела от ужаса. Оставалось надеяться, что это просто грязь, хотя зловоние намекало на кое-что похуже.
Она выдернула ногу. А потом сжала зубы и опасливо шагнула, выбирая кочки повыше и потверже, сторонясь рытвин и колеи. Идти пришлось медленно, но все же она умудрилась не оставить в грязи башмаков и понемногу продвигаться в ту сторону, где с отчаянной надеждой угадывала север, – пока смешок за спиной не заставил ее обернуться.
– Чё, боимся башмачки изгваздать?
Пока она смотрела под ноги, выбирая дорогу, и подтягивала подол платья, чтобы не измазать в лужах, к ней пристали двое парней. Эти шлепали по грязи босиком и думать не думали о брызгах на штанинах. Один небрежно держал на плече багор, другой нес простую корзину. Канальные крысы, сообразила Адер.
Кое-кому удавалось прожить, хоть и скудно, торча на мостах и вылавливая из воды проплывавший мусор. Адер выросла на рассказах об Эммиле Короле Нищих, якобы выловившем из воды сундук жемчуга и ставшем первым богачом Аннура. Этим двоим не так посчастливилось. Корзина была пуста и, судя по впалым мальчишеским щекам, пустовала давно. Юнец с багром ткнул в Адер пальцем. У него были короткие волосы и острая мордочка хорька. И ехидная улыбочка. У Адер свело живот.
– Говорю, чё, боишься башмачки замарать? – Он запнулся, только сейчас заметив повязку. – Чё это у тебя с глазками?
Не зазубри она ответ, повторяя его сотни раз, так и застыла бы с разинутым ртом. А теперь сумел выдавить: