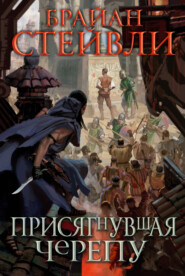По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пепел Нетесаного трона. На руинах империи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рук, стараясь не спешить, зашагал через двор.
Он уже был у лазарета, когда из двери, тяжело опираясь на трость, вышел знакомый – Старик Уен. Он всмотрелся в Рука белесыми подслеповатыми глазами и улыбнулся.
– Здравствуй, сын.
Для Уена все были «сыновьями», но сейчас обращение звучало теплее обычного. В двенадцать лет покинув дельту ради чужого города, Рук там никого и ничего не знал. Все, чему он выучился в камышах – охотиться, скрываться, подкрадываться, убивать, – в городе было ни к чему. Высокие здания теснили его, среди множества людей не хватало воздуха. В иные дни мальчику чудилось, что город его раздавит. Рук и теперь, пятнадцать лет спустя, помнил, как замирал испуганной норной крысой, чувствуя тяжесть города, тяготившую его грудь. Так складывалось, что в подобные минуты его всегда находил Уен. Старик выводил его на крышу над спальней, где было больше простора и воздуха; покуривая трубку, Уен ждал, пока отступит паника. Он никогда не задавал вопросов, будто понимал, что такой ужас нельзя высказать, а можно только перетерпеть. К двенадцати годам Рук смирился с отсутствием родителей – или хотя бы с тем, что никогда их не увидит. И все же ему делалось спокойней, когда Уен на него смотрел, замечал его, улыбался и звал сыном.
– Здравствуй, отец, – откликнулся он, остановившись в двух шагах от лазарета.
– Странный день.
Рук не дал себе измениться в лице, не напрягся. Он бы доверил Уену любую тайну, только этот двор был неподходящим местом, чтобы делиться секретами. В городе нашлось бы мало мест безопаснее храма Эйры, но это не значило, что здесь безопасно.
– Я слышал про какого-то безумца, – с оглядкой заметил Рук. – Голый человек на Весеннем мосту… По слухам, его убили, столкнули в реку и утопили.
– И я слышал. Кое-кто так говорил. А кто-то говорил, что его забрал вуо-тон. – Уен надолго замолчал, вглядываясь в Рука старыми глазами. – Или кто-то, похожий на вуо-тона, с татуировками. Утащил его в дельту.
Рук проглотил ругательство. Все произошло так быстро: один миг, чтобы сбить человека и нырнуть за ним – на мосту была такая сумятица, ливень слепил глаза… Можно было надеяться, что никто не заметит вытатуированных полос под манжетами его балахона.
– Мало кто верит в историю про вуо-тона, – спокойно заключил Уен.
– Зачем вуо-тонам безумный дурень?
– В самом деле. Сам я думаю, что того человека убили, как и остальных.
У Рука зачастил пульс.
– Остальных?
– Их по городу было не меньше десятка, – сурово кивнул жрец, – а может, и больше того. Один на Арене. Один в Пурпурных банях. На горе Безумного Трента. У Гока Ми. На Пивном рынке.
– Что им тут понадобилось?
– Все обращались с теми же словами: «Благо вам!» Кто-то толковал о Владыке или о Первом. Вступайте в его воинство… великая святая цель…
– И всех перебили?
Уен снова кивнул:
– Домбанг полон страха, особенно после бойни в Пурпурных банях. Пожалуй, жаль, что того, с Весеннего моста, не спас какой-нибудь вуо-тон. – Старик послал Руку острый взгляд. – Или кто-нибудь, похожий на вуо-тона.
Рук мягко коснулся плеча Уена:
– Лучше, чтобы эта история не пошла дальше, отец.
– Конечно, сын мой, – кивнул старик.
Не так много времени ушло, чтобы проскользнуть в лазарет и вернуться с квеем и гладким тростником, но Бьен, зажимавшая рану вестника своей чистой рубахой, уже потеряла терпение.
– Ты за квеем на Пивной рынок таскался?
Он передал ей кувшин и горшочек.
– Не хотелось привлекать внимание. О происшествии уже идут толки. И кто-то рассказывал, что вестника забрал вуо-тон.
Бьен бросила на него острый взгляд.
– Всего лишь слухи, – успокоил ее Рук. – Но я не хотел подкреплять их, бегая туда-сюда.
– Еще один довод против расписной кожи.
Едва она отняла наспех свернутый тампон, рана наполнилась кровью и гноем. Бьен откупорила квей, пропитала напитком ткань и прижала ее к разодранной коже. Вестник забился – квей обжигал открытую рану еще сильней, чем жег язык, – и выкрикнул несколько слов.
Бьен подняла глаза на Рука:
– Что это было?
– Не знаю. Он весь день пытался что-то сказать. – Рук выглянул в ночь за узким оконцем: на сотне крыш горели огни жертвоприношений, большие и малые. – Я говорил с Уеном: такие вестники, не меньше десятка, объявились по всему городу.
– Знаю. – Бьен еще раз промыла рану квеем и отставила кувшин. – Пока ждала тебя, наслушалась. Толкуют, одну такую перехватили зеленые рубашки, не дав людям совсем ее растерзать. Но и та умерла прежде, чем верховные жрецы приступили к допросу.
– Что, надо думать, рассердило верховных жрецов.
– Меньше, чем богохульники-чужестранцы в городе.
– Это у нас называется богохульством?
Бьен оглянулась на него:
– «Придет Первый, подобный тем, кого вы чтите, но сильней и быстрее»? Да, у нас это так и называется.
Гладкий тростник был уже готов: разрезан вдоль сердцевины на длинные плоские полосы. Бьен взяла одну, прижала влажной мясистой стороной к разодранной коже вестника. Его счастье, если квей и тростник не дадут ране закиснуть. Бьен работала уверенно и проворно. Залепив рану листьями, она промокнула ее окровавленной рубашкой и замотала все свежей.
– Твой пояс, – потребовала она, протянув руку. – Ты усади его, а я закреплю повязку.
Стянув с себя пояс, Рук передал его Бьен и обхватил вестника за плечи. Он действовал как мог бережно, но когда приподнял раненого, у того вырвался бессловесный звериный вой, продолжавшийся несколько ударов сердца, – пока Рук не зажал ему рот ладонью. Бьен ловко накинула петлю пояса на повязку и крепко затянула. Вестник корчился, но Рук поддерживал его, пока она не закончила, а потом мягко опустил на постель.
Вестник пробормотал что-то и затих на запятнанных простынях.
Рук еще минуту его разглядывал, затем обернулся к Бьен:
– Что люди говорят о Банях?
– Винят Аннур.
– Аннур? – нахмурился Рук.
– Это такая огромная империя. К северу от нас. Лет двести владела Домбангом…
Он уже был у лазарета, когда из двери, тяжело опираясь на трость, вышел знакомый – Старик Уен. Он всмотрелся в Рука белесыми подслеповатыми глазами и улыбнулся.
– Здравствуй, сын.
Для Уена все были «сыновьями», но сейчас обращение звучало теплее обычного. В двенадцать лет покинув дельту ради чужого города, Рук там никого и ничего не знал. Все, чему он выучился в камышах – охотиться, скрываться, подкрадываться, убивать, – в городе было ни к чему. Высокие здания теснили его, среди множества людей не хватало воздуха. В иные дни мальчику чудилось, что город его раздавит. Рук и теперь, пятнадцать лет спустя, помнил, как замирал испуганной норной крысой, чувствуя тяжесть города, тяготившую его грудь. Так складывалось, что в подобные минуты его всегда находил Уен. Старик выводил его на крышу над спальней, где было больше простора и воздуха; покуривая трубку, Уен ждал, пока отступит паника. Он никогда не задавал вопросов, будто понимал, что такой ужас нельзя высказать, а можно только перетерпеть. К двенадцати годам Рук смирился с отсутствием родителей – или хотя бы с тем, что никогда их не увидит. И все же ему делалось спокойней, когда Уен на него смотрел, замечал его, улыбался и звал сыном.
– Здравствуй, отец, – откликнулся он, остановившись в двух шагах от лазарета.
– Странный день.
Рук не дал себе измениться в лице, не напрягся. Он бы доверил Уену любую тайну, только этот двор был неподходящим местом, чтобы делиться секретами. В городе нашлось бы мало мест безопаснее храма Эйры, но это не значило, что здесь безопасно.
– Я слышал про какого-то безумца, – с оглядкой заметил Рук. – Голый человек на Весеннем мосту… По слухам, его убили, столкнули в реку и утопили.
– И я слышал. Кое-кто так говорил. А кто-то говорил, что его забрал вуо-тон. – Уен надолго замолчал, вглядываясь в Рука старыми глазами. – Или кто-то, похожий на вуо-тона, с татуировками. Утащил его в дельту.
Рук проглотил ругательство. Все произошло так быстро: один миг, чтобы сбить человека и нырнуть за ним – на мосту была такая сумятица, ливень слепил глаза… Можно было надеяться, что никто не заметит вытатуированных полос под манжетами его балахона.
– Мало кто верит в историю про вуо-тона, – спокойно заключил Уен.
– Зачем вуо-тонам безумный дурень?
– В самом деле. Сам я думаю, что того человека убили, как и остальных.
У Рука зачастил пульс.
– Остальных?
– Их по городу было не меньше десятка, – сурово кивнул жрец, – а может, и больше того. Один на Арене. Один в Пурпурных банях. На горе Безумного Трента. У Гока Ми. На Пивном рынке.
– Что им тут понадобилось?
– Все обращались с теми же словами: «Благо вам!» Кто-то толковал о Владыке или о Первом. Вступайте в его воинство… великая святая цель…
– И всех перебили?
Уен снова кивнул:
– Домбанг полон страха, особенно после бойни в Пурпурных банях. Пожалуй, жаль, что того, с Весеннего моста, не спас какой-нибудь вуо-тон. – Старик послал Руку острый взгляд. – Или кто-нибудь, похожий на вуо-тона.
Рук мягко коснулся плеча Уена:
– Лучше, чтобы эта история не пошла дальше, отец.
– Конечно, сын мой, – кивнул старик.
Не так много времени ушло, чтобы проскользнуть в лазарет и вернуться с квеем и гладким тростником, но Бьен, зажимавшая рану вестника своей чистой рубахой, уже потеряла терпение.
– Ты за квеем на Пивной рынок таскался?
Он передал ей кувшин и горшочек.
– Не хотелось привлекать внимание. О происшествии уже идут толки. И кто-то рассказывал, что вестника забрал вуо-тон.
Бьен бросила на него острый взгляд.
– Всего лишь слухи, – успокоил ее Рук. – Но я не хотел подкреплять их, бегая туда-сюда.
– Еще один довод против расписной кожи.
Едва она отняла наспех свернутый тампон, рана наполнилась кровью и гноем. Бьен откупорила квей, пропитала напитком ткань и прижала ее к разодранной коже. Вестник забился – квей обжигал открытую рану еще сильней, чем жег язык, – и выкрикнул несколько слов.
Бьен подняла глаза на Рука:
– Что это было?
– Не знаю. Он весь день пытался что-то сказать. – Рук выглянул в ночь за узким оконцем: на сотне крыш горели огни жертвоприношений, большие и малые. – Я говорил с Уеном: такие вестники, не меньше десятка, объявились по всему городу.
– Знаю. – Бьен еще раз промыла рану квеем и отставила кувшин. – Пока ждала тебя, наслушалась. Толкуют, одну такую перехватили зеленые рубашки, не дав людям совсем ее растерзать. Но и та умерла прежде, чем верховные жрецы приступили к допросу.
– Что, надо думать, рассердило верховных жрецов.
– Меньше, чем богохульники-чужестранцы в городе.
– Это у нас называется богохульством?
Бьен оглянулась на него:
– «Придет Первый, подобный тем, кого вы чтите, но сильней и быстрее»? Да, у нас это так и называется.
Гладкий тростник был уже готов: разрезан вдоль сердцевины на длинные плоские полосы. Бьен взяла одну, прижала влажной мясистой стороной к разодранной коже вестника. Его счастье, если квей и тростник не дадут ране закиснуть. Бьен работала уверенно и проворно. Залепив рану листьями, она промокнула ее окровавленной рубашкой и замотала все свежей.
– Твой пояс, – потребовала она, протянув руку. – Ты усади его, а я закреплю повязку.
Стянув с себя пояс, Рук передал его Бьен и обхватил вестника за плечи. Он действовал как мог бережно, но когда приподнял раненого, у того вырвался бессловесный звериный вой, продолжавшийся несколько ударов сердца, – пока Рук не зажал ему рот ладонью. Бьен ловко накинула петлю пояса на повязку и крепко затянула. Вестник корчился, но Рук поддерживал его, пока она не закончила, а потом мягко опустил на постель.
Вестник пробормотал что-то и затих на запятнанных простынях.
Рук еще минуту его разглядывал, затем обернулся к Бьен:
– Что люди говорят о Банях?
– Винят Аннур.
– Аннур? – нахмурился Рук.
– Это такая огромная империя. К северу от нас. Лет двести владела Домбангом…