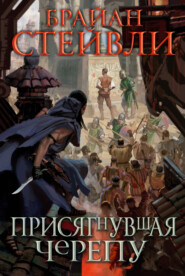По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пепел Нетесаного трона. На руинах империи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Тех двоих…»
Рук уставил взгляд в самый жар костра и смотрел, пока не стало жечь глаза. Еще чуть-чуть, и он поймает воспоминание: двое с оружием в руках ухмыляются, подсвеченные сзади пожаром…
– Они убили Уена…
– Не думай об этом, – тонким, будто придушенным голосом попросила Бьен.
– Они убили Уена. Я взялся за канделябр, и тут меня чем-то ударило…
Он поднял руку к затылку, надавил на здоровенную, как яйцо, шишку, впустил в себя боль и отпустил. Облегчение прояснило мысли. Он смотрел в шипящие, мечущиеся языки огня.
– Надо идти, – позвала Бьен.
– Погоди, я сейчас вспомню…
– Надо идти.
Это уже была мольба. Он впервые слышал, как она умоляет.
Толстое бревно в погребальном костре переломилось, подтесанное жаром, обрушилось в туче искр… и он увидел: головы врагов взрываются кровавой жижей, валятся тела. Бьен стоит за ними, сжимая кулаки, с лицом, застывшим как маска.
От такого видения ноги подкашиваются.
– Ты лич, – проговорил он, поворачиваясь к ней. – Помилуй, добрая Эйра, ты лич…
Слезы размывали сажу на ее лице. Бьен потянулась к нему – он невольно отгородился. Она вздрогнула и уронила руку.
– Извини, – сказал он, шагнув к ней.
Бьен бессловесно замотала головой и отступила, пряча глаза.
– Ты знала? – глухо спросил он. – До этой ночи?
Она кивнула.
– Давно?
– Я не нарочно, – прошептала она. – Я никогда не прибегала к силе.
– И все-таки – давно?
Она смотрела в огонь, будто ответ пылал в костре.
– С восьми лет.
Бьен осела наземь, словно ей ноги подрубили. Тихим облачком взметнулся пепел, покрыл сединой ее черные волосы, сразу превратив в старуху.
Рук медленно сел с ней рядом.
– Все хорошо, – беспомощно, глупо проговорил он.
– Ничего тут нет хорошего, – мотнула она головой.
– Ты сама сказала: никогда этой силой не пользовалась.
– Вчера воспользовалась.
– Ты спасала людей. Меня спасала.
– Все равно. – Она снова покачала головой. – «Личи – это извращение. Ядовитые, противоестественные…»
– К чему вспоминать аннурские законы? Здесь уже не империя.
– Не только по аннурским законам, – уныло возразила она. – Сам знаешь. «Жги их, бей их, схорони их всех, потому что каждый живой лич есть оскорбление красоты и отваги Трех».
Он задумался: сколько часов она провела, перечитывая законы? Сколько раз окуналась в проклятия, высказанные поэтами, государственными деятелями, драматургами? Ему представилось, как она, бессонная в спящем храме, перебирает старинные тома, заучивая наизусть полные ненависти слова.
– «Любовь не надо заслуживать», – напомнил он. – «Любовь не знает пределов и условий. Она всеобъемлюща, или она не любовь. Любящий не считает заслуг и вины…»
– В четвертой заповеди, Рук, – оборвала она его всхлипом, – ни слова не сказано о личах. О личах ни одна заповедь не говорит.
– Думаешь, я без заповедей не могу тебя любить?
Он придвинулся к ней. Хуже всего, что она осталась прежней. Глаза покраснели от слез и дыма, лицо, перемазанное золой и пеплом, осунулось от изнеможения, и все равно он видел в ней ту женщину, которую так часто обнимал раньше. Она взглянула ему в лицо.
– Что ты со мной сделаешь?
Спросила тихо, но вопрос звенел, как свежеоткованный нож.
Рук смотрел на нее и не находил ответа.
– Личей мы убиваем. Топим или сжигаем, чтобы они не испортили нашего мира, не успели никому навредить. – Она вздернула подбородок, подставив горло. – Лучше ты, чем кто другой.
Она дрожала, как в горячке. На шее вздулась жилка, дыхание срывалось.
Ему было больно – хуже, чем от побоев и ран, словно внутри лопнуло что-то, без чего нельзя жить. Хотелось ее обнять, утешить, уверить, что все будет хорошо, только это была бы ложь. Мир разваливался, и ее вопрос «Что ты со мной сделаешь?» перерезал последнюю связующую его нить. Кем же она его считает, если думает, что он способен обратиться против нее, причинить ей зло?
Рук долго сидел, отупев, как заколотый бык, уже бескровный и безжизненный, но еще не умеющий упасть.
– Ничего я с тобой не сделаю, – выговорил он наконец.
И потянулся к ней, обнял за плечи. Она, вздрогнув, замерла – и отодвинулась. Всего на пару дюймов, но показалась вдруг такой далекой, недостижимой.
– Как же тогда? – тихо спросила она.
Рук покачал головой, попытался представить завтрашний день, послезавтрашний… На костре догорали тела. В руинах за стеной скребся ветер. Эйра жила не в храмах, ее домом были сердца человеческие, но в своем сердце он находил лишь гнев и сомнение, страдание и пепел.
– Будем жить, – сказал он.