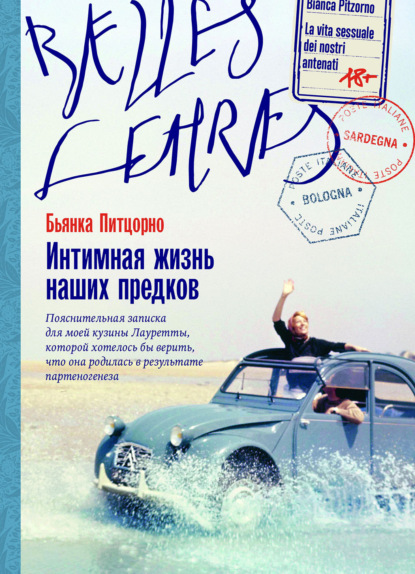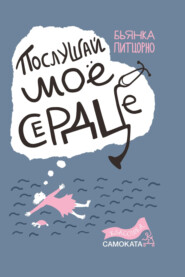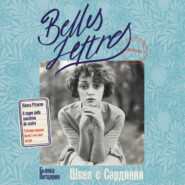По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Интимная жизнь наших предков. Пояснительная записка для моей кузины Лауретты, которой хотелось бы верить, что она родилась в результате партеногенеза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Согласен. Но если он сам, то есть Марцелл, позировал для этих статуй, он бы себя узнал?
– Разве можем мы об этом знать? Да и в конечном счете какое это имеет значение?
– Какое имеет значение? Некоторые утверждают, что портрет, в котором мы способны себя узнать, содержит частицу нашей души. Вот почему некоторые примитивные народы не позволяют себя фотографировать, – яростно бросился в атаку профессор Палевский.
– Только не говорите, что вы лично в это верите.
Эстелла беспокойно заерзала в кресле и вцепилась в руку Палевского, как бы удерживая его, но тот продолжал настаивать: если у докладчика есть слайды, хотя бы один, с изображением таких статуй, их обязательно нужно показать.
– Душа, заключенная в картине, может говорить, если ее спросят.
– Прямо здесь и сейчас? – поинтересовался француз. Он явно наслаждался ситуацией. – С нами, современными учеными, занимающимися литературой, а не спиритизмом?
– Конечно, не с любым из нас. Только с тем, у кого есть дар.
Кое-кто в зале тихонько хихикал, но в целом присутствующие были раздражены и смущены. Как реагировать на подобные выходки?
Ада взглядом поискала модератора: почему он не вмешается и не заставит этого сумасшедшего заткнуться? Бедняжка Эстелла, сжимая в руках костыли, что-то возбужденно шептала Палевскому, словно просила покинуть зал. В конце концов ей удалось убедить профессора хотя бы замолчать, но не раньше, чем он угрожающе процедил:
– Завтра поговорим.
И тут все поняли, что скрывается под названием его доклада: «Современная некюйя». Просто цирк какой-то!
8
Только чувство долга не позволило нашей героине снова выскочить из зала. Будь ее доклад запланирован на завтра, она прямо сегодня вечером сказалась бы больной и уехала бы рано утром. Но модератор уже объявлял ее имя – Ада понимала, что просто не имеет права раздуть скандал.
Изначально Ада собиралась говорить без бумажки, доверившись, как обычно, собственной памяти. Сейчас же ей вдруг показалось, что волнение может заставить ее сбиться. Наверное, лучше читать. Но первой среди докладчиков уткнуть нос в текст, будучи при этом самой молодой, – не покажет ли она тем самым свою неуверенность? Нет, лучше говорить, глядя слушателю прямо в глаза: выбрать случайного человека и наблюдать за его реакцией – так всегда делали ее учителя. Спокойно и хладнокровно.
Эстелла, все еще пунцовая от смущения, ободряюще улыбнулась ей со второго ряда.
«Ты пришла сюда, девочка, чтобы меня послушать. И я буду говорить для тебя. Надеюсь, лекция окажется полезной. Название моего доклада ты уже знаешь, поскольку оно указано в программе и к тому же только что было объявлено: “Молчание женщин”. Я собираюсь переосмыслить несколько самых известных упоминаний некюйи, в основном латинских, а не греческих (хотя мой предмет – именно греческая литература): у Вергилия, Овидия, Лукана, Гомера – и доказать, что герой никогда не спускается в загробный мир, чтобы выслушать умершую женщину, будто женские слова ни здесь, ни там не имеют значения.
Часто именно женщины вызываются сопровождать героя за порог смерти, чтобы совершить более или менее жестокий ритуал, необходимый для общения с духами. Сивилла у Вергилия, аэндорская волшебница в Библии, ужасная ведьма Эрихто в “Фарсалии” Лукана, отхлеставшая ядовитой змеей не желавший оживать труп, – это женщины, посвятившие себя колдовству, ведьмы, бессмертные божества.
На троне царства теней сидит его властительница, Персефона, принимающая дань: золотую ветвь, которую можно найти, лишь следуя за двумя белыми голубками. Она сидит молча, ей не нужно слов, чтобы отпускать души на волю, освобождать и снова налагать на них узы, связывающие с загробным миром. Единственные покойницы, кого о чем-либо спрашивают, – престарелые матери, да и то лишь потому, что те случайно попадаются на пути, как Антиклея Одиссею: “О, взгляни-ка, кто это там! А я и не знал, что ты умерла… Расскажи мне, что творится дома, мама”. Ни тебе: “Что с тобой случилось? Как твои дела?”, ни “Я по тебе соскучился”! Он командует: “Рассказывай. Служи мне, как служила при жизни”. Молодые женщины, возлюбленные – им поэты слова не дают, даже если те еще на пороге Аида, даже если только что умерли. Дидона с не зажившей после недавнего самоубийства раной не слушает оправданий и извинений предателя-любовника (только оправдания и извинения, никаких вопросов), а лишь презрительно проходит мимо, опустив глаза, суровая и бесчувственная, словно камень. И молчаливая, словно тот же камень. Обвиненную мужем в преступлении на почве самых чудовищных страстей Клитемнестру поэт не призывает поведать свою версию истории. Даже Пенелопе, которая, как и Клитемнестра, еще жива, Одиссею советуют не доверять: “Можешь поведать ей часть своих тайн, но не все. Женщины, особенно жены, опасны, они ведут нас к погибели”.
Или вот Эвридика, о которой мы говорили за завтраком… Эвридика, юная невеста величайшего поэта и певца всех времен, погибшая на цветущем лугу от укуса гадюки, блуждает во тьме, хромая и безгласная. Жених, Орфей, осмелился спуститься за своей любовью в царство мертвых, осмелился просить повелителей теней вернуть ее хотя бы на время отпущенной ей жизни, вернуть такой же молодой, какой она была. “Это одолжение, а не подарок, потому что в конце концов она, как и все люди, должна будет сюда вернуться. Я прошу вас во имя той любви, которую и вы познали, если правдива история о твоем, Персефона, похищении тем, кто сидит сейчас рядом с тобой. Если же вы не отдадите ее мне, я не вернусь один, а останусь здесь, в подземном царстве, живой, но без нее подобный мертвому”.
Прекрасно, правда? Очень трогательно. Аж сердце разрывается. При звуке лиры Орфея души умерших зарыдали, Тантал перестал тянуться к ускользающей от него воде, Сизиф прекратил свой бесплодный труд и уселся на камень, который вкатывал на гору, коршуны бросили клевать Титию печень, жестокие фурии впервые прослезились, сочувствуя певцу. Сердца царя и царицы подземного мира смягчились. Как они могли отказать такому поэту, такому верному и безутешному влюбленному? Призывают Эвридику, блуждающую среди теней: она лишь недавно прибыла и еще хромает. Жених берет ее за руку. “Будь осторожен, Орфей, не вздумай смотреть на нее, пока она не воскреснет в мире живых”. Но он не может сдержаться, оборачивается и, как ты знаешь, милая Эстелла, навсегда теряет возлюбленную.
Но разве ей, Эвридике, нечего сказать? Неужели жених, увидев ее снова, ни о чем не спросил? “Как ты, милая любовь моя? Не пугает ли тебя эта темнота, плачешь ли ты, болит ли укушенная нога? Поговори со мной, Эвридика. Скажи, что любишь меня и хочешь вернуться со мной”.
Нет, ничего не говорит, ни о чем не спрашивает Орфей, и ничего не отвечает его потерянная невеста.
А разве повелители теней поинтересовались, хочет ли она уйти, прежде чем делать одолжение просящим? Услышали ли хоть слово из уст этого драгоценного залога, запрошенного и отданного, этой вещи, этого камня, немого, как презрительная Дидона?
Нет. Ни единого слова – даже когда Орфей снова ее теряет. Обернувшись, он видит, как она исчезает, как ее снова засасывает в темную бездну, тянет руки, чтобы обнять, но обнимает лишь пустоту. В том, что она умерла второй раз, Орфей может винить только самого себя: на что тут жаловаться, если недостаточно сильно любишь?
Так почему же вы, женщины, ныне живущие под солнцем, жалуетесь, что мужчины вас не слушают? Что они вас не спрашивают? Что их не интересуют ваши ответы, ваши мысли? Что их обижают, а может, и пугают ваши слова?
Если мужчина теряет вас, теряет во всех смыслах этого слова, то из-за слишком сильной любви. Таково их оправдание. Заткнитесь и не жалуйтесь.
Но ты, Эстелла, еще молода и не имеешь никакого отношения к миру мертвых. Ты принадлежишь новому миру, Эстелла. Миру, где женщины наделены даром речи. Говори. Говори, как я говорю с тобой».
9
Окончание доклада (конечно, не того, что вы только что прочитали, а его обезличенной академической версии, дополненной историческими, критическими и текстологическими ремарками, предназначенными всем слушателям) было встречено сдержанными аплодисментами, скорее вежливыми, чем восторженными. Прямо скажем, весьма короткими аплодисментами: публика хотела поскорее услышать Дитера Хорландера, выступавшего следующим.
Однако те, кто ожидал от профессора чего-то нового – открытия, недавнего озарения, неожиданной филологической интерпретации гомеровских текстов, – остались разочарованны. Видимо, прославленный пожилой мэтр решил не прилагать особенных усилий ради малозначимой летней конференции, а потому попросту «конвертировал» в доклад собственную статью о сошествии Одиссея в Аид в XI песни «Одиссеи». Будучи истинным джентльменом, профессор начал с того, что процитировал недавний пассаж Ады о тени Антиклеи, указав, однако, что Одиссей настолько любил мать, что трижды тщетно пытался ее обнять. Затем он вернулся к фигуре Ахилла, который не проявил радости, услышав лесть гостя. Стоило ли при жизни быть самым могучим из героев, почитаемым товарищами наравне с богами, чтобы, умерев, стать во тьме царем мертвецов? Он предпочитает быть голодным батраком у безнадельного бедняка, но живым, прозябать в нищете и безвестности, изможденным и голодным, зато согретым солнцем.
Произнеся это, Хорландер поежился, словно от внезапного озноба, и обхватил грудь руками, как бы согревая замерзшие ребра. «А он действительно постарел, – подумала Ада с сожалением. – Понимает, что уже одной ногой в могиле, и сочувствует погибшим героям больше, чем их гостю».
Было в удрученном лице Хорландера, дряблом, усталом, морщинистом, нечто отталкивающее: нижние веки давно потеряли тонус и обвисли, обнажив белесую слизистую. Впрочем, немногим лучше был и язык, который старик беспрестанно высовывал, стараясь слизнуть капельки слюны, возникавшие в уголках губ и тонкими струйками стекавшие к подбородку. Руки покрывали бурые пятна, шея мятой серой тряпкой торчала из воротника. Он внушал глубочайшую жалость и вместе с тем отвращение.
Ада задумалась, чувствуют ли прочие собравшиеся что-то подобное. Вот Эстелла, например, – она так молода и свежа, будто только что из душа. Вся такая живая, трепетная; сквозь полупрозрачную кожу видна пульсирующая на горле синяя жилка.
Доклад Хорландера, казалось, подходил к концу. Он говорил о ритуале насыщения мертвых кровью, необходимом, чтобы восстановить их сознание и память, заставить вспомнить и узнать вопрошающего. Поистине ужасная картина: Одиссей с двумя спутниками на краю ямы, наполненной кровью зарезанных жертв, черных овцы и барана. Трое живых, размахивая мечами, сдерживают натиск толпы бледных теней, желающих насытиться и вопящих от нетерпения. Но даже собственной матери Одиссей не дал утолить жажду, пока не явился Тиресий, чтобы рассказать о будущем и о том, суждено ли ему вернуться домой.
Напившись, прорицатель, по подбородку которого еще стекали струйки крови, предсказал все дальнейшие приключения героя, включая финальный триумф и старость на сонной Итаке: «В конце концов ты, Одиссей, в старости светлой спокойно умрешь, окруженный всеобщим счастьем народов твоих»[30 - Пер. В. Вересаева.].
И тут Хорландер, понизивший на последних словах голос до гипнотического монотонного шепота, почти растворившегося в тишине, вдруг вскочил, будто поднявшаяся на дыбы лошадь, яростно бьющая копытами в воздухе, и срывающимся голосом прокричал слова Данте о другом Одиссее, Улиссе средневековой некюйи, не принявшем безбедной старости и спокойной смерти: вернувшись, он, по-прежнему полный жара, когда-то заставившего молодого мужа и отца отплыть к побережью Трои, снова покинул родину ради неизвестности «морского простора».
Раздался гром аплодисментов. На мгновение показалось, что старик-профессор снова молод и полон энергии, словно паруса его корабля наполнил внезапный порыв ветра.
Но лишь на мгновение. Потом он, взмокший от пота и полностью вымотанный, буквально рухнул на стул. Подбежавшая медсестра вытерла ему лоб и увела на улицу. В жестах женщины было что-то ужасно интимное, непрофессиональное, какая-то наглая, почти эротическая ласка, которую Ада наблюдала, трепеща от удивления и отвращения. Может, он, словно Жиль де Ре, пьет детскую кровь?.. «Ужас какой!» – подумала она и вдруг почувствовала, что сама нестерпимо хочет крови, молодой крови и упругой плоти, вздувшихся мышц, свежего дыхания, сильных ног, которые можно обхватить бедрами… Сильных и грациозных, как у фавна, попавшегося ей в парке. Ее обуяли жажда и голод до молодого тела, способного стать ей щитом и спасти от «учтивого спокойствия» смерти.
10
Но, выйдя из зала заседаний, Ада обнаружила, что до ужина целый час, и решила прогуляться по окрестностям. В городе она еще ничего не видела и мало что знала: ее университетская деятельность в Англии, как правило, ограничивалась Оксфордом.
Район кишел магазинчиками студенческой книги, но попадались и лавки, торговавшие газетами или туристическими безделушками. Завешанные плакатами витрины, фотографии старой доброй королевы-матери, постеры с репродукциями известных картин (в основном прерафаэлитов) – время здесь будто остановилось, думала Ада. «Словно я по-прежнему та восемнадцатилетняя девчонка, что дрожала от переполнявших ее эмоций, читая “На маяк”[31 - Роман В. Вулф.], и чувствовала себя бунтаркой, осмелившись обсуждать с дядей Танкреди скандальный роман Форстера “Морис”»[32 - Роман Э. М. Форстера.].
Купив в одной из первых своих поездок в Англию репродукцию «Древа прощения» сэра Эдварда Берн-Джонса, которая на долгие годы прописалась у нее в комнате, Ада всякий раз восхищенно глядела на печального мускулистого Демофонта, безвольно поникшего в объятиях превратившейся в миндальное дерево девушки – та напоминала ей о боярышнике-Сильвии из «Волшебства для Мэриголд». Как только она обзавелась собственной квартирой, картина перекочевала на кухню и обосновалась напротив стола, по соседству со знаменитой фотографией мертвого Че Гевары: глаза широко раскрыты, на переднем плане огромные ступни, как у Христа Мантеньи[33 - Имеется в виду картина А. Мантеньи «Мертвый Христос».]. Друзья, заходившие пообедать, возмущались: «Только аппетит портит». В ней же это фото пробуждало чувство вины: как и Че, Ада выросла в буржуазной семье, вот только бороться за новый мир у нее получалось плоховато. За это чувство она заплатила отсутствием аппетита, исхудав так, что джинсы падали с бедер, если не затянуть до отказа пояс.
Плакат с Че Геварой затерялся бог знает где во время многочисленных переездов. А вот Демофонт, другой, но все такой же красавец, печально глядел на нее с витрины, ожидая, пока его купит очередная наивная и полная иллюзий студентка-иностранка, какой когда-то была и сама Ада.
Чуть дальше светилась вывеска андеграундного кинотеатра. Афиши обещали «Это бомба» Нанни Моретти на языке оригинала – Ада посмотрела его сразу после премьеры и до сих пор хохотала, вспоминая это «тусуюсь, общаюсь с какими-то людьми, чем-то занимаюсь» – типичный портрет ее студентов. Или, может, ее собственный?
Она вдруг почувствовала, что скучает по Джулиано. Из колледжа за границу не позвонишь, но табличка на стойке регистрации гласила, что летом туристы могут воспользоваться мобильным переговорным пунктом в конце улицы.
Там стояла очередь: все операторы сгрудились вокруг смуглого паренька, который, видимо, их не понимал, но настоятельно протягивал свои монеты и листок с номером.
– Для тебя бесплатно, – вмешалась Ада, надеясь, что мальчишка – итальянец. Тот понял, хоть и оказался испанцем. – Ты сегодня тысячный клиент, повезло!
Но паренек, похоже, пришел по делу и случаем не воспользовался: говорил он мало, односложно, несмотря на то что разговор был бесплатным, и почти сразу же освободил кабинку.
Джулиано оказался дома: смотрел футбол по телевизору.